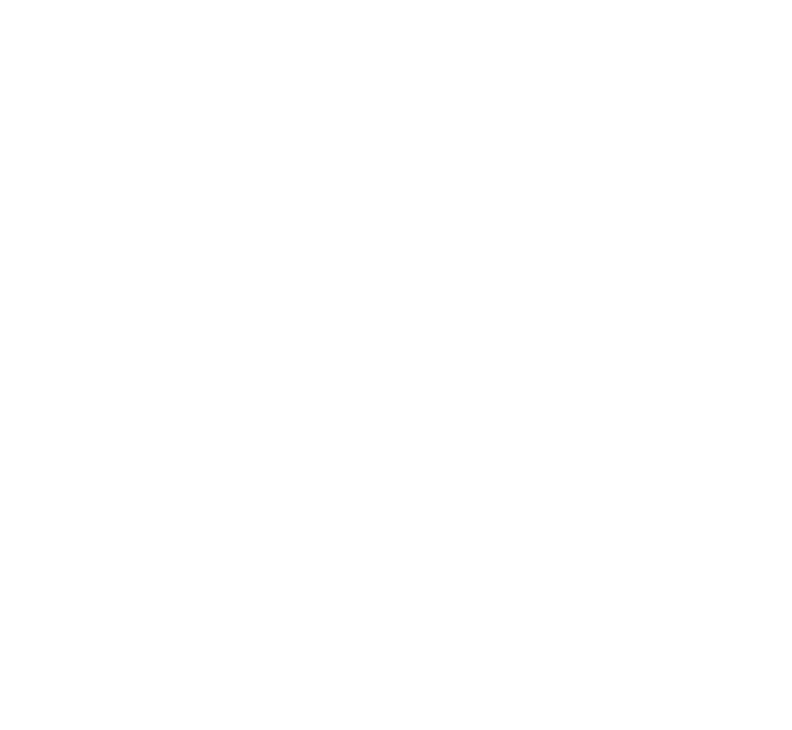На основе реальных историй
Изучите мир реальных историй через захватывающие рассказы. Погрузитесь в уникальные жизненные ситуации, вдохновляйтесь опытом других и открывайте новые горизонты понимания. Читайте дальше, чтобы открыть для себя настоящие истории, которые могут изменить ваше восприятие мира.
Безмолвный шепот
Красивая девушка с диагнозом "конверсионная афония".
Ваши прогнозы, доктор.
ноябрь, 2025
Ваши прогнозы, доктор.
ноябрь, 2025
Ценный кадр. История одной любви.
Я всегда стремилась к идеалу, что только от себя зависит, какая у тебя будет судьба. Но кто же знал, что однажды меня выкинет из этой круговерти с такой силой, что я окажусь на обочине
сентябрь, 2025
сентябрь, 2025
Тень за Зеркалом.
Такое бывает, когда приходишь с одной проблемой, а в итоге получается совсем другое. И хорошо, если это "разруливается" в положительную сторону. А если нет?
август, 2025
август, 2025
Перестраховка
Этот медицинский рассказ подчеркивает, как интуиция и перестраховка врача могут стать решающими в борьбе за здоровье.И да, иногда сомнения спасают жизнь
июль, 2025
июль, 2025
Две жизни
Бывает так, что пишется на одном дыхании.
Эта трогательная история о надежде и чуде напоминает, что любовь действительно способна исцелять.
июнь, 2025
Эта трогательная история о надежде и чуде напоминает, что любовь действительно способна исцелять.
июнь, 2025
Синдром Сикстинской капеллы
Медицинский почти детектив по мотивам реального случая.
Или автор просто соскучился по медицинской терминологии?
май, 2025
Или автор просто соскучился по медицинской терминологии?
май, 2025
На грани
Мир экстренной медицины, где каждый миг на счету. Рассказ раскрывает не только профессиональные аспекты медицины, но и человеческие эмоции, надежду и мужество, которые помогают преодолевать самые тяжелые испытания.
март, 2025
март, 2025
Разговор
Трогательный рассказ о подростковом кризисе, история о надежде, взаимопонимании и силе самовыражения, которая показывает, как важна поддержка в трудные времена. Эта история поднимает важные темы о важности эмоционального здоровья и доверии.
январь, 2025
январь, 2025
Судьба
Это трогательный и живой рассказ о семье, которая преодолела множество испытаний на пути к своей мечте; о непростой истории молодой мамы-подростка и о принятии компромиссов. Рассказ про надежду, силу семьи и начало новой жизни.
июнь, 2024
июнь, 2024
Погружение в туман безмолвной боли
В основе лежит реальный клинический случай, опубликованный в медицинском журнале Clinical Case Reports 27 декабря 2023 года.
март, 2024
Когда реальность дурачится: сновидения на грани
Можно ли поставить диагноз по снам?
Если вы когда-нибудь просыпались, но чувствовали, что всё ещё плаваете между мирами — этот рассказ для вас.
январь, 2024
Если вы когда-нибудь просыпались, но чувствовали, что всё ещё плаваете между мирами — этот рассказ для вас.
январь, 2024
Иллюстрации к рассказам
"Когда реальность дурачится: сновидения на грани" и "Погружение в туман безмолвной боли":
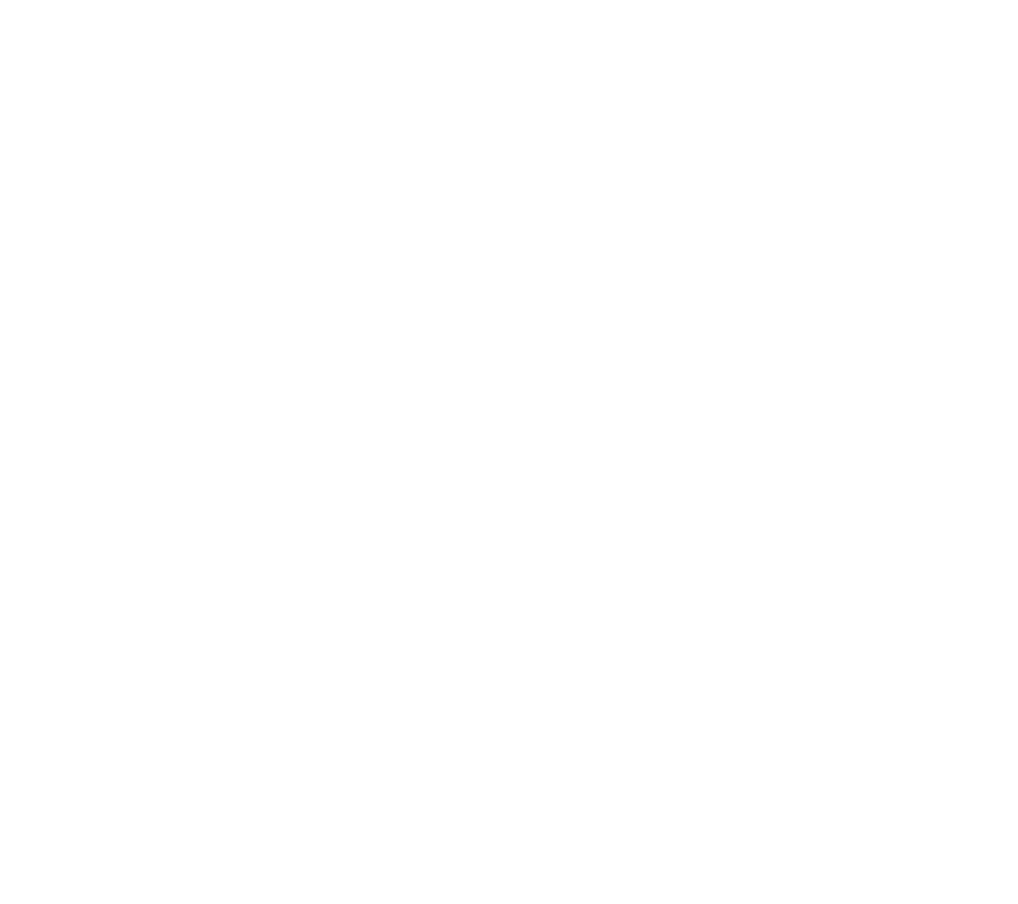
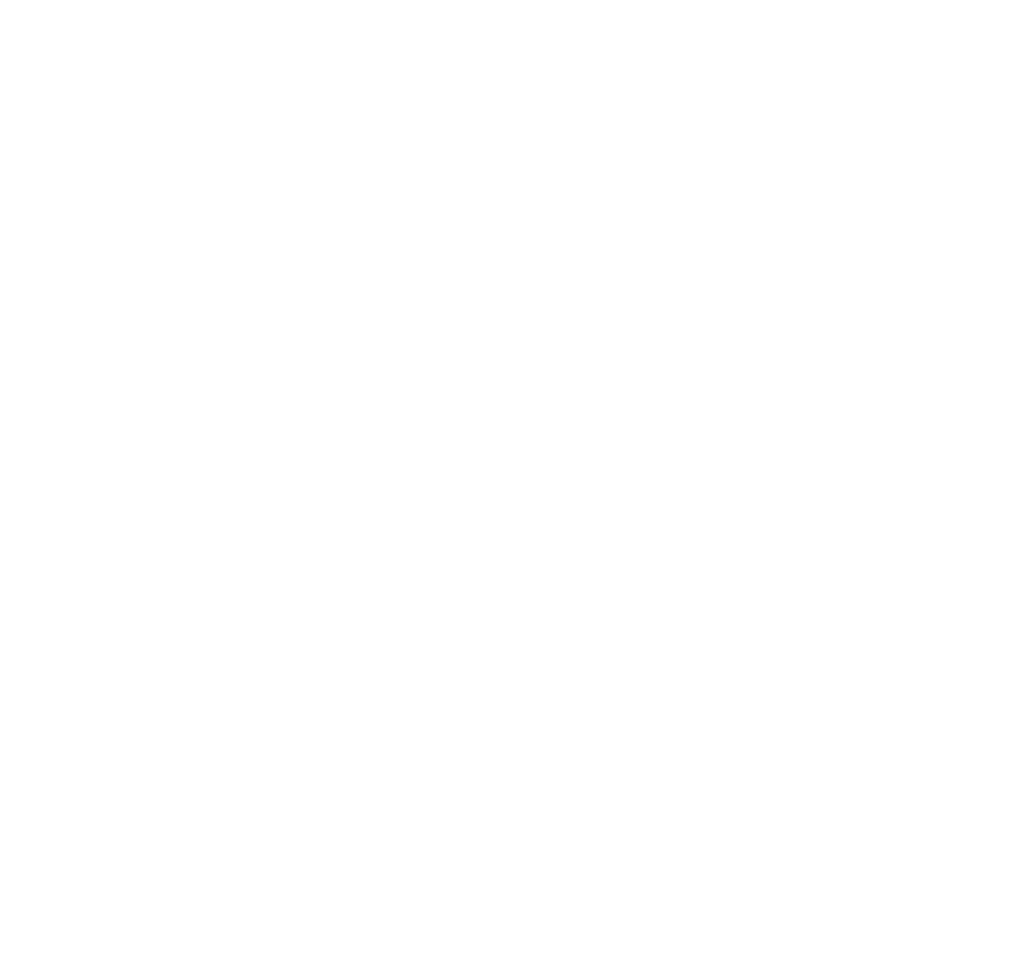
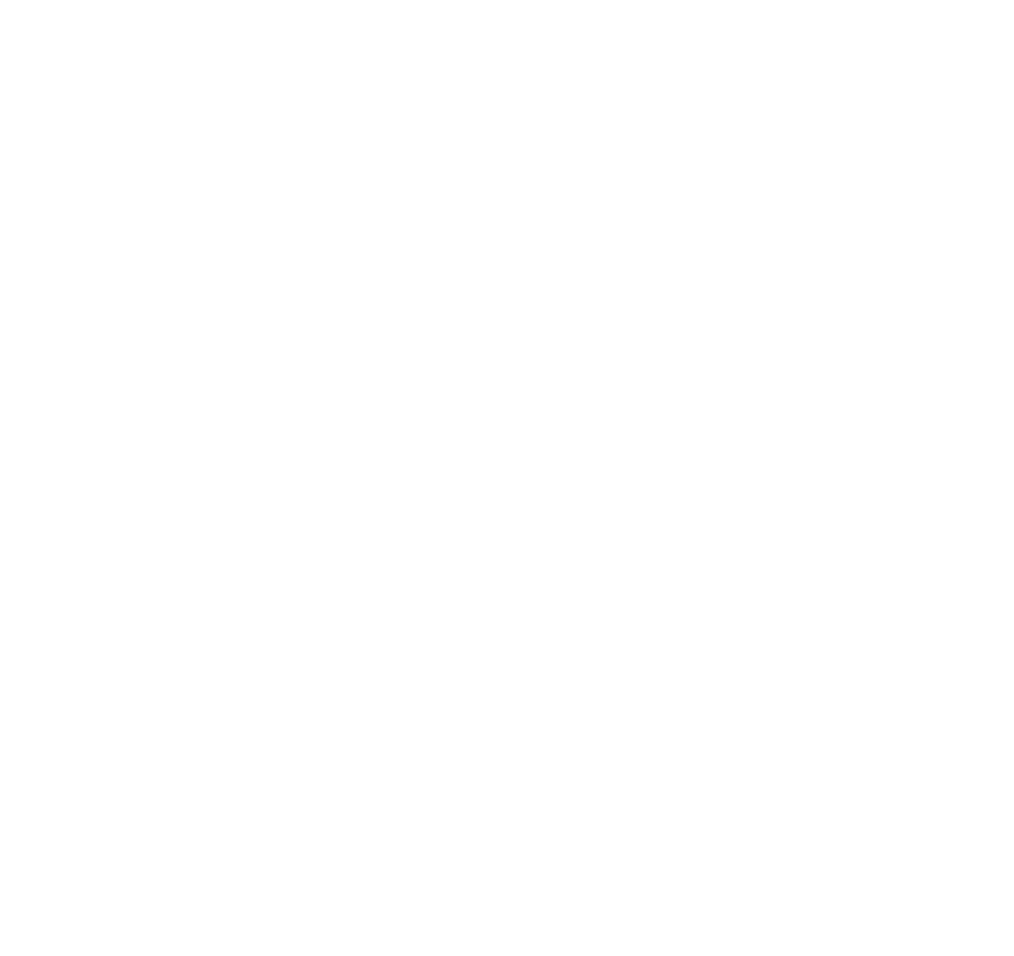
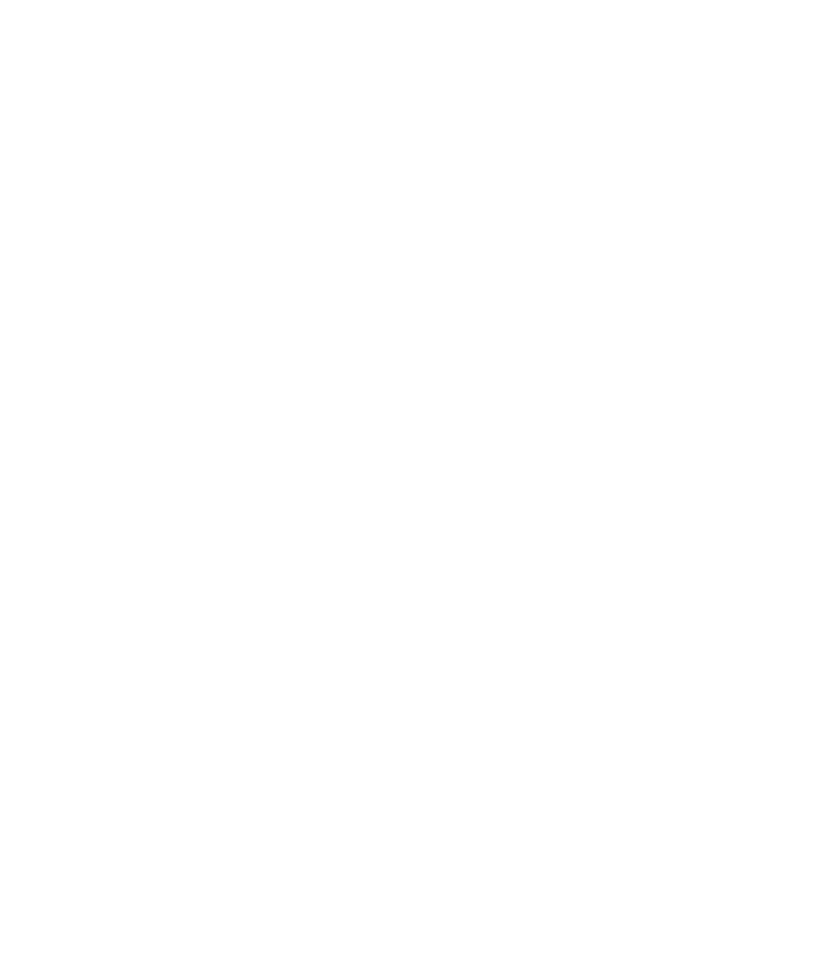
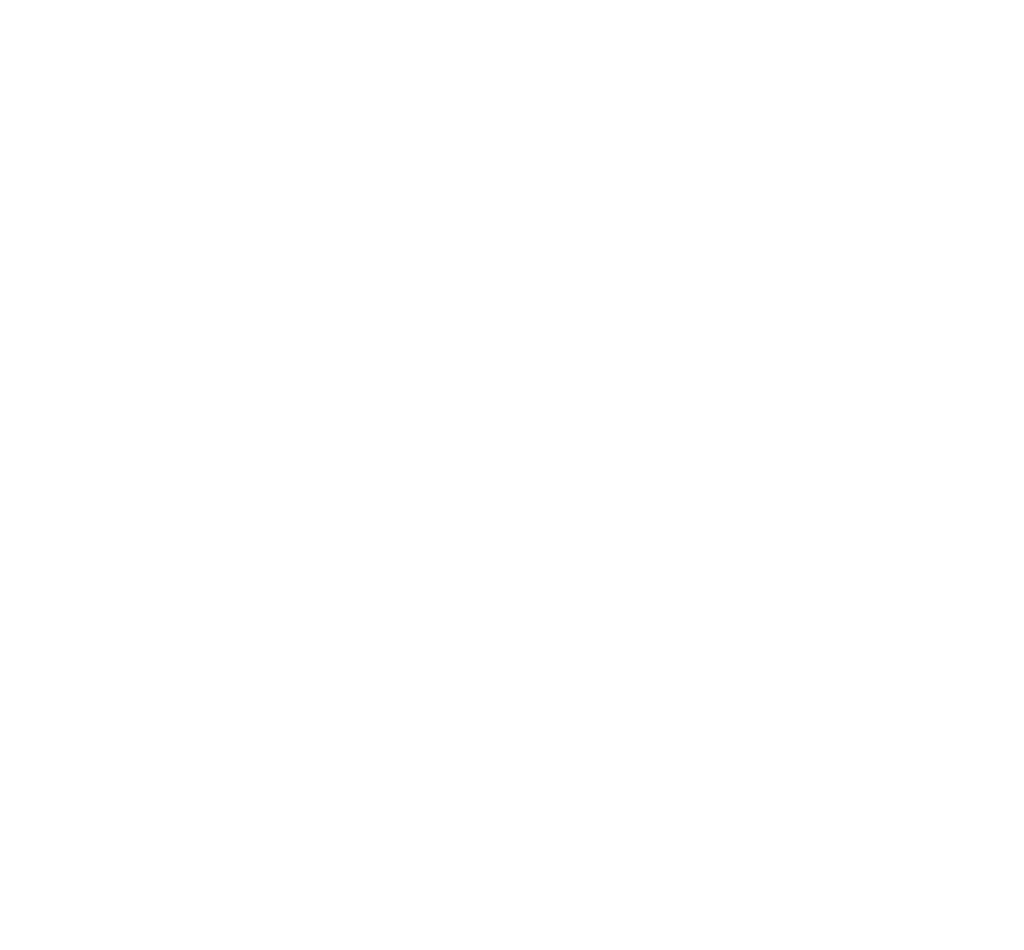
К рассказам "Судьба", "Разговор", "На грани":
- РазговорСветлана
- РазговорИнга Анатольевна
- РазговорСветлана
- СудьбаЗавтрак Жени и Насти
- СудьбаИллюстрация-аллегория на тему беременности Марины и предполагаемой миомы
- СудьбаЖеня, Марина и новорожденный Кирюша
- СудьбаКирюша
- На граниОбложка. Палата реанимации
- На граниВ реанимобиле
К рассказам "Синдром Сикстинской капеллы", "Две жизни", "Перестраховка", "Тень за Зеркалом"
К рассказу "Ценный кадр. История одной любви" и "Цена спасения".
К рассказу "Безмолвный шёпот".
Погружение в туман безмолвной боли
Солнце просачивалось сквозь занавески в моей комнате, но мир казался мне всё более тусклым, словно свет фонаря, который кто-то забыл включить.
Меня зовут Аня. Это я ещё помню. Мне 25. Кажется. Это я тоже помню. Но порой думаю, что мне под сотню лет — ведь в голове как будто разгорелся пожар, пожирающий всё живое, важное. И память, которую я всегда считала своей самой надёжной подругой, начала рушиться.
Это началось чуть меньше года назад, и теперь я почти не могу удержать в голове даже имена самых близких людей — своих мамы и папы. Помню, что они у меня есть, но их имена словно ушли за горизонт разума. Когда впервые это поняла, запаниковала, пыталась вспомнить, записывала на листочках и раскладывала везде. Зову их просто «мама» и «папа». И они ещё не знают, что их имена уже вне моей памяти.
Сегодня я иду к врачу — к неврологу. Мама смотрит на меня с тревогой и нежностью, но для меня всё вокруг — размытый свет, странные голоса, неясные лица. Я никого не помню. Когда-то знакомые улицы для меня сейчас как лабиринт.
— Аня, ты понимаешь, куда мы идём? — мягко спрашивает мама.
Я пытаюсь придумать что ответить, но в голове зыбь — слова исчезают, как песок между пальцев.
В кабинете врача было прохладно, и тишина висела как груз. Что-то висит на стенах (для чего? Не понятно, но я и не обращаю на это внимание, медицинские приборы, бумаги и добрый взгляд доктора — всё это словно чужой мир.
— Здравствуйте, Марина Петровна, — поздоровался врач, обращаясь сначала к маме, стараясь прозвучать максимально спокойно и дружелюбно. Затем повернулся ко мне.
— Аня, я Селиванов Степан Андреевич, невролог. Расскажите, пожалуйста, что именно вас беспокоит?
О консультации моя мама договаривалась через знакомых. По их рекомендациям это лучший специалист нашего города.
Хозяин кабинета немолод, 31-летний стаж работы с пациентами и их родственниками позволил повидать много разных ситуаций. Чего только не было на его приёмах! Бывало, приходилось наблюдать театр с нотками иронии и непредсказуемости. Были пациенты, которые гипертрофировали свои симптомы или вообще воображали болезнь; приходили с убеждением, что сам себе поставил диагноз, решив, что у него редкое неврологическое заболевание.
Иногда приходилось просить пройтись, потанцевать или сделать пару странных движений — неплохой способ проверить координацию, если пациент настаивает на своем диагнозе “супергероя”. Были такие, которые ставили под сомнение любое слово врача шутками или сарказмом, практически напрямую заявляя: «Я здесь за позитивом, а не за очередными диагнозами!» Да и самые маленькие пациенты иногда задавали разные вопросы, типа: «А у вас тоже иногда голова болит, как у меня?»
Пришедших маму с дочкой видел впервые. Они сидели тихие и молчаливые, не торопясь начинать диалог. И это уже было странно. Ведь как только люди заходили в кабинет на приём, каждый жаждал сразу поделиться своими жалобами и ощущениями того, что тревожит.
Доктор внимательно присмотрелся к вошедшим.
Мать — женщина средних лет, с усталым, но добрым лицом, словно эта зыбкая граница между тревогой и надеждой отразилась в её чертах. Её волосы, когда-то тёмные, теперь с проседью, собраны в аккуратный пучок, а глубокие морщинки у уголков глаз говорили о многочисленных бессонных ночах и переживаниях. В её взгляде читалась бесконечная забота и тревога, словно она пыталась создать невидимый щит вокруг дочери.
Дочь. Аня - хрупкая девушка с бледной кожей и немного небрежной причёской, её темные волосы лежали мягкими волнами. Но взгляд … взгляд был затуманен, в нем не было молодости и блеска. И это поражало. Легкий дрожащий тон голоса и медленные, нерешительные движения выдавали внутреннюю растерянность и слабость. В её глазах мелькала потерянность, как будто она пыталась поймать ускользающие обрывки собственного “я”.
Врач насторожился. Профессиональное чутьё не подводит. Тяжёлый случай.
Женщина же склонилась над девушкой, словно защищая её от всего мира.
— Доктор, — начала мать, голос дрожал, — моя дочь Аня… понимаете, … за последние девять месяцев всё изменилось. Она забывает всё: имена, события, даже как просто приготовить еду или одеться. Иногда падает. Мы пытаемся ей помочь, но ничего не получается.
Селиванов молча кивнул, выслушивая безутешную историю.
— Аня, — осторожно обратился он к девушке, — расскажите, как вы себя чувствуете? Что-то тревожит?
Говорил медленно и внимательно, словно хотел сам запомнить каждое слово.
Степан Андреевич увидел, как девушка посмотрела в ответ немым взглядом, глаза тусклые, плавающие. Её тонкий голос едва слышался.
— Я… не помню… кого-то из близких… Иногда не могу… сделать то, что раньше легко… — её слова, словно из далёкого тумана, были трудно связать в цельную мысль.
Я пыталась найти ответы на вопросы врача. Но слова путались, и особенно тяжело было говорить о том, что память меня предала. И поймала себя на мысли, что не могла вспомнить события этого утра, потом как в кино мысленно всплыло как, собираясь сюда, забыла, где положила телефон и вдруг перестала понимать, как завязать шнурки на ботинках.
Мама, видя моё замешательство, стала говорить, что я почти всегда медленная и неуклюжая, часто падаю, а простые дела вроде приготовления еды стали для меня настоящей пыткой.
Я чувствовала, как даже тело начало предавать меня, движения становились тяжёлыми, словно сквозь вязкий мёд.
Мёд… А что это? Вроде бы что-то хорошее. Слово вспомнилось, а что оно означает? ...
— У меня забывается всё … и я боюсь, что я не вернусь назад, я теряю себя… — выдохнула я, глядя в пол.
Мама сжала мою руку крепко, словно хотела передать мне всю свою силу.
— Мы все вместе. Мы найдём выход — сказала она.
В практике Степана Андреевича были случаи, когда молодые люди страдали от когнитивных нарушений, но столь резкого и быстрого прогрессирования он не встречал. Лечение и диагностика таких заболеваний требуют тщательности, но зачастую время у врачей и людей, пришедших за помощью, ограничено.
— Марина Петровна, расскажите, что происходило до этих симптомов? — спросил Селиванов, изучая карту пациентки.
— Она перенесла ковид около десяти месяцев назад, — мать вздохнула, — но через несколько дней после начала болезни у неё был приступ — начались судороги. Я вызвала «скорую», она долго не приезжала, а судороги не прекращались! Это было ужасно… Я не знала что делать! …её судороги длились три часа… Потом «скорая» приехала и увезла Анечку в больницу.
Врач сжал подбородок. Это значимое обстоятельство, учитывая современные научные данные о влиянии коронавирусной инфекции на нервную систему.
— Её госпитализировали с эпилептическим статусом и назначили леветирацетам, да? — уточнил он.
— Да, — кивнула мать. — Но судороги не прекратились до сих пор, периодически они возникают снова!
— А что было с Аней в детстве? Были ли какие-то проблемы?
— Она всегда была немного рассеянной, — ответила женщина, — но мы с мужем списывали это на усталость. А, ещё! При рождении она не сразу заплакала. Мне тогда показало это странным, я всё спрашивала акушерок, почему она не плачет. Но потом моя девочка закричала, и я сразу успокоилась. Чуть повзрослев, иногда важные моменты она забывала, но никто не думал, что это серьёзно, - быстро добавила она.
С каждым словом мамы и её дочери перед специалистом-неврологом постепенно открывалась вся тяжесть состояния этой юной девушки: невидимый, но неумолимый враг «захватил» её мозг, оставляя раны, которые не залечить.
Собирая анамнез, Степан Андреевич обратил внимание, что речь у Ани тихая, походка неуверенная, рефлексы повышены.
Далее. Балл MMSE — всего 11 из 30, что свидетельствует о тяжёлом когнитивном дефиците. Плохо.
Когда после МРТ они принесли заключение…
—Вы читали заключение? – спрашивает он тихо и далее читает уже молча, - атрофия коры, расширение борозд, лёгкое расширение желудочков мозга, уменьшенный мозолистый корпус...
—Однако признаков инсультов, кровоизлияний или демиелинизации не обнаружено. - бодро заявил Селиванов, зная, что это в данном случае ничего хорошего не значит. Больше хотел ободрить двух людей, которые сидели напротив.
— Это … что ... означает? — прервала его Марина Петровна.
Седой врач с добрыми внимательными глазами смотрел на молодую девушку и её взволнованную мать. Комфортный, наполненный мягким светом кабинет казался сегодня особенно холодным и безжизненным, словно отражая ту тяжесть, которую он сейчас вынужден будет донести до этих близких друг другу людей.
— Что мозг вашей дочери уменьшился в объёме и структура его нарушена, — ответил врач мягко. — К сожалению, это отражается на функциях памяти, движения и речи.
— А почему это так быстро? Она ведь была всегда здорова...
— К сожалению, иногда развитие болезни ускоряется после серьёзного стресса организма. В вашем случае — перенесённая коронавирусная инфекция, поражение центральной нервной системы и длительный эпилептический статус.
Селиванов чувствовал, как сердце матери сжимается от боли за своего ребёнка, но должен был говорить правду.
— Аня, — обратился Степан Андреевич осторожно, — мы говорим сейчас сложные вещи. У вас обнаружена деменция, ранняя деменция — состояние, при котором память и мышление ухудшаются. Это редкое и тяжёлое заболевание, особенно в вашем возрасте.
Девушка не смогла ничего ответить. Только глаза наполнились слезами.
— Что это значит? Я… я скоро не смогу вспомнить маму? — тихо спросила она.
— Мы сделаем всё, чтобы помочь сохранить память и замедлить процесс, — ответил врач, — но, честно говоря, ситуация очень сложная.
Мать глубоко вздохнула, положив руку на плечо дочери.
— Доктор, что нам делать дальше?
— К сожалению, диагностика и лечение требуют ресурсов и времени. Нужно продолжить наблюдение в нашем центре, лечение должно быть постоянным и не прерываться.
Они ушли. Оставшись наедине с картой и снимками, пожилой доктор чувствовал горечь и бессилие. Молодая жизнь, столь несправедливо разрушенная тяжелым заболеванием, уходила в бездну. Аня постепенно погружалась в туман забвения. Сколько у неё есть времени? Всё зависит от ухода окружающих её людей.
Каждый врач мечтает не только ставить диагноз, но и спасать жизни — сегодня это оказалось невозможно.
Он записал в истории болезни: «Деменция с ранним началом, впервые возникшая эпилепсия, вторичные после COVID-19».
Папа сидел на диване, крепко сцепив руки между собой.
—Врач спросил, не было ли проблем ранее, - рассказывала мама ему о нашем визите в клинику.
А у меня внезапно пошли картинки в голове, так иногда происходит, но всё реже и реже. Я вспомнила про болезнь, которая случилась почти год назад. Как она называлась? …не помню…
Болела, было тяжело. Тогда неожиданно начался приступ — ужасные судороги в несколько часов, когда тело сжималось и дёргалось в бесконтрольном порыве боли и страха. Мышцы сокращались, словно кто-то внутри устроил вечеринку с толпой неадекватных гостей. Я не могла контролировать эти движения, и это чувство сопровождалось каким-то внутренним взрывом или жаром. Данное моё состояние скорее помнит хорошо тело, а не я. Иногда и сейчас падаю, когда вокруг начинает всё кружиться, как будто я в центре урагана.
А тогда…в первый раз я просто потеряла сознание.
Все последующие разы, когда приступ заканчивается, я остаюсь абсолютно разбитой — голова гудит, память стерта, не помню ничего, хотя, куда уж больше. А внутри смутное ощущение, что сейчас весь мир кажется чужим.
Часто я вообще чувствую себя растерянной и уязвимой, не зная точно кому могу доверять.
Я едва не умерла тогда, уже в первый раз. В больнице мне потом постоянно ставили капельницы и давали таблетки.
Слушаю разговор родителей как во сне. Слова врача сегодня звучали как приговор. Я поняла, что моя голова — это теперь поле боя, на котором я должна бороться с непредсказуемым врагом.
С каждым днём было всё сложнее. Я забывала, куда иду; терялась в простых местах, похожих друг на друга, как двойники. В комнате я ставлю чашку, только чтобы потом искать её часами.
Иногда я читаю. Раньше я очень любила читать, а потом внезапно поняла, что не могу понять о чём идёт речь в книге.
— Будто я стала глухой и слепой, — сказала я самой себе.
А в голове звучал голос мамы. Как она рассказывала врачу, что я однажды не смогла застегнуть куртку и промёрзла на улице; как сумела упасть посреди дорожки, когда пыталась просто зайти обратно в дом.
Речь тоже постепенно меняется. Мои слова становятся несвязными, тихими, как будто у меня «сломался» голос.
После визита к доктору в моей голове как будто отпечаталось, что исследования подтвердили —мой мозг стал меняться. Я уже не помню точно, что говорил этот добрый дядечка, но смысл такой, как будто пожилой человек думает и делает всё за меня.
— Я боюсь, что это — конец моей прежней жизни, — призналась я тихо маме.
Смотрю на неё, а в её глазах слёзы и твердый призыв бороться. Она, несмотря на тяжесть ситуации, не теряет надежды!
— Мы должны идти дальше, Ань, — сказала она, — возможно, есть лечение, которое поможет. Мы будем искать его.
Сегодня я чувствую усталость, но внутри после этих слов начинает гореть крошечный огонёк надежды. Я не знаю, что будет завтра, но хочу идти вперёд — ради себя, ради мамы и папы, ради тех, кто меня любит.
Каждый день — словно игра в прятки с собственной памятью и телом. Иногда мне кажется, что я теряю часть себя, но в каждом новом взгляде мамы и врача слышу зов бороться.
Моя история — не только о болезни, но и о надежде, о силе и о любви, которые способны противостоять даже самым тяжёлым испытаниям.
Меня зовут Аня. Это я ещё помню. Мне 25. Кажется. Это я тоже помню. Но порой думаю, что мне под сотню лет — ведь в голове как будто разгорелся пожар, пожирающий всё живое, важное. И память, которую я всегда считала своей самой надёжной подругой, начала рушиться.
Это началось чуть меньше года назад, и теперь я почти не могу удержать в голове даже имена самых близких людей — своих мамы и папы. Помню, что они у меня есть, но их имена словно ушли за горизонт разума. Когда впервые это поняла, запаниковала, пыталась вспомнить, записывала на листочках и раскладывала везде. Зову их просто «мама» и «папа». И они ещё не знают, что их имена уже вне моей памяти.
Сегодня я иду к врачу — к неврологу. Мама смотрит на меня с тревогой и нежностью, но для меня всё вокруг — размытый свет, странные голоса, неясные лица. Я никого не помню. Когда-то знакомые улицы для меня сейчас как лабиринт.
— Аня, ты понимаешь, куда мы идём? — мягко спрашивает мама.
Я пытаюсь придумать что ответить, но в голове зыбь — слова исчезают, как песок между пальцев.
В кабинете врача было прохладно, и тишина висела как груз. Что-то висит на стенах (для чего? Не понятно, но я и не обращаю на это внимание, медицинские приборы, бумаги и добрый взгляд доктора — всё это словно чужой мир.
— Здравствуйте, Марина Петровна, — поздоровался врач, обращаясь сначала к маме, стараясь прозвучать максимально спокойно и дружелюбно. Затем повернулся ко мне.
— Аня, я Селиванов Степан Андреевич, невролог. Расскажите, пожалуйста, что именно вас беспокоит?
О консультации моя мама договаривалась через знакомых. По их рекомендациям это лучший специалист нашего города.
Хозяин кабинета немолод, 31-летний стаж работы с пациентами и их родственниками позволил повидать много разных ситуаций. Чего только не было на его приёмах! Бывало, приходилось наблюдать театр с нотками иронии и непредсказуемости. Были пациенты, которые гипертрофировали свои симптомы или вообще воображали болезнь; приходили с убеждением, что сам себе поставил диагноз, решив, что у него редкое неврологическое заболевание.
Иногда приходилось просить пройтись, потанцевать или сделать пару странных движений — неплохой способ проверить координацию, если пациент настаивает на своем диагнозе “супергероя”. Были такие, которые ставили под сомнение любое слово врача шутками или сарказмом, практически напрямую заявляя: «Я здесь за позитивом, а не за очередными диагнозами!» Да и самые маленькие пациенты иногда задавали разные вопросы, типа: «А у вас тоже иногда голова болит, как у меня?»
Пришедших маму с дочкой видел впервые. Они сидели тихие и молчаливые, не торопясь начинать диалог. И это уже было странно. Ведь как только люди заходили в кабинет на приём, каждый жаждал сразу поделиться своими жалобами и ощущениями того, что тревожит.
Доктор внимательно присмотрелся к вошедшим.
Мать — женщина средних лет, с усталым, но добрым лицом, словно эта зыбкая граница между тревогой и надеждой отразилась в её чертах. Её волосы, когда-то тёмные, теперь с проседью, собраны в аккуратный пучок, а глубокие морщинки у уголков глаз говорили о многочисленных бессонных ночах и переживаниях. В её взгляде читалась бесконечная забота и тревога, словно она пыталась создать невидимый щит вокруг дочери.
Дочь. Аня - хрупкая девушка с бледной кожей и немного небрежной причёской, её темные волосы лежали мягкими волнами. Но взгляд … взгляд был затуманен, в нем не было молодости и блеска. И это поражало. Легкий дрожащий тон голоса и медленные, нерешительные движения выдавали внутреннюю растерянность и слабость. В её глазах мелькала потерянность, как будто она пыталась поймать ускользающие обрывки собственного “я”.
Врач насторожился. Профессиональное чутьё не подводит. Тяжёлый случай.
Женщина же склонилась над девушкой, словно защищая её от всего мира.
— Доктор, — начала мать, голос дрожал, — моя дочь Аня… понимаете, … за последние девять месяцев всё изменилось. Она забывает всё: имена, события, даже как просто приготовить еду или одеться. Иногда падает. Мы пытаемся ей помочь, но ничего не получается.
Селиванов молча кивнул, выслушивая безутешную историю.
— Аня, — осторожно обратился он к девушке, — расскажите, как вы себя чувствуете? Что-то тревожит?
Говорил медленно и внимательно, словно хотел сам запомнить каждое слово.
Степан Андреевич увидел, как девушка посмотрела в ответ немым взглядом, глаза тусклые, плавающие. Её тонкий голос едва слышался.
— Я… не помню… кого-то из близких… Иногда не могу… сделать то, что раньше легко… — её слова, словно из далёкого тумана, были трудно связать в цельную мысль.
Я пыталась найти ответы на вопросы врача. Но слова путались, и особенно тяжело было говорить о том, что память меня предала. И поймала себя на мысли, что не могла вспомнить события этого утра, потом как в кино мысленно всплыло как, собираясь сюда, забыла, где положила телефон и вдруг перестала понимать, как завязать шнурки на ботинках.
Мама, видя моё замешательство, стала говорить, что я почти всегда медленная и неуклюжая, часто падаю, а простые дела вроде приготовления еды стали для меня настоящей пыткой.
Я чувствовала, как даже тело начало предавать меня, движения становились тяжёлыми, словно сквозь вязкий мёд.
Мёд… А что это? Вроде бы что-то хорошее. Слово вспомнилось, а что оно означает? ...
— У меня забывается всё … и я боюсь, что я не вернусь назад, я теряю себя… — выдохнула я, глядя в пол.
Мама сжала мою руку крепко, словно хотела передать мне всю свою силу.
— Мы все вместе. Мы найдём выход — сказала она.
В практике Степана Андреевича были случаи, когда молодые люди страдали от когнитивных нарушений, но столь резкого и быстрого прогрессирования он не встречал. Лечение и диагностика таких заболеваний требуют тщательности, но зачастую время у врачей и людей, пришедших за помощью, ограничено.
— Марина Петровна, расскажите, что происходило до этих симптомов? — спросил Селиванов, изучая карту пациентки.
— Она перенесла ковид около десяти месяцев назад, — мать вздохнула, — но через несколько дней после начала болезни у неё был приступ — начались судороги. Я вызвала «скорую», она долго не приезжала, а судороги не прекращались! Это было ужасно… Я не знала что делать! …её судороги длились три часа… Потом «скорая» приехала и увезла Анечку в больницу.
Врач сжал подбородок. Это значимое обстоятельство, учитывая современные научные данные о влиянии коронавирусной инфекции на нервную систему.
— Её госпитализировали с эпилептическим статусом и назначили леветирацетам, да? — уточнил он.
— Да, — кивнула мать. — Но судороги не прекратились до сих пор, периодически они возникают снова!
— А что было с Аней в детстве? Были ли какие-то проблемы?
— Она всегда была немного рассеянной, — ответила женщина, — но мы с мужем списывали это на усталость. А, ещё! При рождении она не сразу заплакала. Мне тогда показало это странным, я всё спрашивала акушерок, почему она не плачет. Но потом моя девочка закричала, и я сразу успокоилась. Чуть повзрослев, иногда важные моменты она забывала, но никто не думал, что это серьёзно, - быстро добавила она.
С каждым словом мамы и её дочери перед специалистом-неврологом постепенно открывалась вся тяжесть состояния этой юной девушки: невидимый, но неумолимый враг «захватил» её мозг, оставляя раны, которые не залечить.
Собирая анамнез, Степан Андреевич обратил внимание, что речь у Ани тихая, походка неуверенная, рефлексы повышены.
Далее. Балл MMSE — всего 11 из 30, что свидетельствует о тяжёлом когнитивном дефиците. Плохо.
Когда после МРТ они принесли заключение…
—Вы читали заключение? – спрашивает он тихо и далее читает уже молча, - атрофия коры, расширение борозд, лёгкое расширение желудочков мозга, уменьшенный мозолистый корпус...
—Однако признаков инсультов, кровоизлияний или демиелинизации не обнаружено. - бодро заявил Селиванов, зная, что это в данном случае ничего хорошего не значит. Больше хотел ободрить двух людей, которые сидели напротив.
— Это … что ... означает? — прервала его Марина Петровна.
Седой врач с добрыми внимательными глазами смотрел на молодую девушку и её взволнованную мать. Комфортный, наполненный мягким светом кабинет казался сегодня особенно холодным и безжизненным, словно отражая ту тяжесть, которую он сейчас вынужден будет донести до этих близких друг другу людей.
— Что мозг вашей дочери уменьшился в объёме и структура его нарушена, — ответил врач мягко. — К сожалению, это отражается на функциях памяти, движения и речи.
— А почему это так быстро? Она ведь была всегда здорова...
— К сожалению, иногда развитие болезни ускоряется после серьёзного стресса организма. В вашем случае — перенесённая коронавирусная инфекция, поражение центральной нервной системы и длительный эпилептический статус.
Селиванов чувствовал, как сердце матери сжимается от боли за своего ребёнка, но должен был говорить правду.
— Аня, — обратился Степан Андреевич осторожно, — мы говорим сейчас сложные вещи. У вас обнаружена деменция, ранняя деменция — состояние, при котором память и мышление ухудшаются. Это редкое и тяжёлое заболевание, особенно в вашем возрасте.
Девушка не смогла ничего ответить. Только глаза наполнились слезами.
— Что это значит? Я… я скоро не смогу вспомнить маму? — тихо спросила она.
— Мы сделаем всё, чтобы помочь сохранить память и замедлить процесс, — ответил врач, — но, честно говоря, ситуация очень сложная.
Мать глубоко вздохнула, положив руку на плечо дочери.
— Доктор, что нам делать дальше?
— К сожалению, диагностика и лечение требуют ресурсов и времени. Нужно продолжить наблюдение в нашем центре, лечение должно быть постоянным и не прерываться.
Они ушли. Оставшись наедине с картой и снимками, пожилой доктор чувствовал горечь и бессилие. Молодая жизнь, столь несправедливо разрушенная тяжелым заболеванием, уходила в бездну. Аня постепенно погружалась в туман забвения. Сколько у неё есть времени? Всё зависит от ухода окружающих её людей.
Каждый врач мечтает не только ставить диагноз, но и спасать жизни — сегодня это оказалось невозможно.
Он записал в истории болезни: «Деменция с ранним началом, впервые возникшая эпилепсия, вторичные после COVID-19».
Папа сидел на диване, крепко сцепив руки между собой.
—Врач спросил, не было ли проблем ранее, - рассказывала мама ему о нашем визите в клинику.
А у меня внезапно пошли картинки в голове, так иногда происходит, но всё реже и реже. Я вспомнила про болезнь, которая случилась почти год назад. Как она называлась? …не помню…
Болела, было тяжело. Тогда неожиданно начался приступ — ужасные судороги в несколько часов, когда тело сжималось и дёргалось в бесконтрольном порыве боли и страха. Мышцы сокращались, словно кто-то внутри устроил вечеринку с толпой неадекватных гостей. Я не могла контролировать эти движения, и это чувство сопровождалось каким-то внутренним взрывом или жаром. Данное моё состояние скорее помнит хорошо тело, а не я. Иногда и сейчас падаю, когда вокруг начинает всё кружиться, как будто я в центре урагана.
А тогда…в первый раз я просто потеряла сознание.
Все последующие разы, когда приступ заканчивается, я остаюсь абсолютно разбитой — голова гудит, память стерта, не помню ничего, хотя, куда уж больше. А внутри смутное ощущение, что сейчас весь мир кажется чужим.
Часто я вообще чувствую себя растерянной и уязвимой, не зная точно кому могу доверять.
Я едва не умерла тогда, уже в первый раз. В больнице мне потом постоянно ставили капельницы и давали таблетки.
Слушаю разговор родителей как во сне. Слова врача сегодня звучали как приговор. Я поняла, что моя голова — это теперь поле боя, на котором я должна бороться с непредсказуемым врагом.
С каждым днём было всё сложнее. Я забывала, куда иду; терялась в простых местах, похожих друг на друга, как двойники. В комнате я ставлю чашку, только чтобы потом искать её часами.
Иногда я читаю. Раньше я очень любила читать, а потом внезапно поняла, что не могу понять о чём идёт речь в книге.
— Будто я стала глухой и слепой, — сказала я самой себе.
А в голове звучал голос мамы. Как она рассказывала врачу, что я однажды не смогла застегнуть куртку и промёрзла на улице; как сумела упасть посреди дорожки, когда пыталась просто зайти обратно в дом.
Речь тоже постепенно меняется. Мои слова становятся несвязными, тихими, как будто у меня «сломался» голос.
После визита к доктору в моей голове как будто отпечаталось, что исследования подтвердили —мой мозг стал меняться. Я уже не помню точно, что говорил этот добрый дядечка, но смысл такой, как будто пожилой человек думает и делает всё за меня.
— Я боюсь, что это — конец моей прежней жизни, — призналась я тихо маме.
Смотрю на неё, а в её глазах слёзы и твердый призыв бороться. Она, несмотря на тяжесть ситуации, не теряет надежды!
— Мы должны идти дальше, Ань, — сказала она, — возможно, есть лечение, которое поможет. Мы будем искать его.
Сегодня я чувствую усталость, но внутри после этих слов начинает гореть крошечный огонёк надежды. Я не знаю, что будет завтра, но хочу идти вперёд — ради себя, ради мамы и папы, ради тех, кто меня любит.
Каждый день — словно игра в прятки с собственной памятью и телом. Иногда мне кажется, что я теряю часть себя, но в каждом новом взгляде мамы и врача слышу зов бороться.
Моя история — не только о болезни, но и о надежде, о силе и о любви, которые способны противостоять даже самым тяжёлым испытаниям.
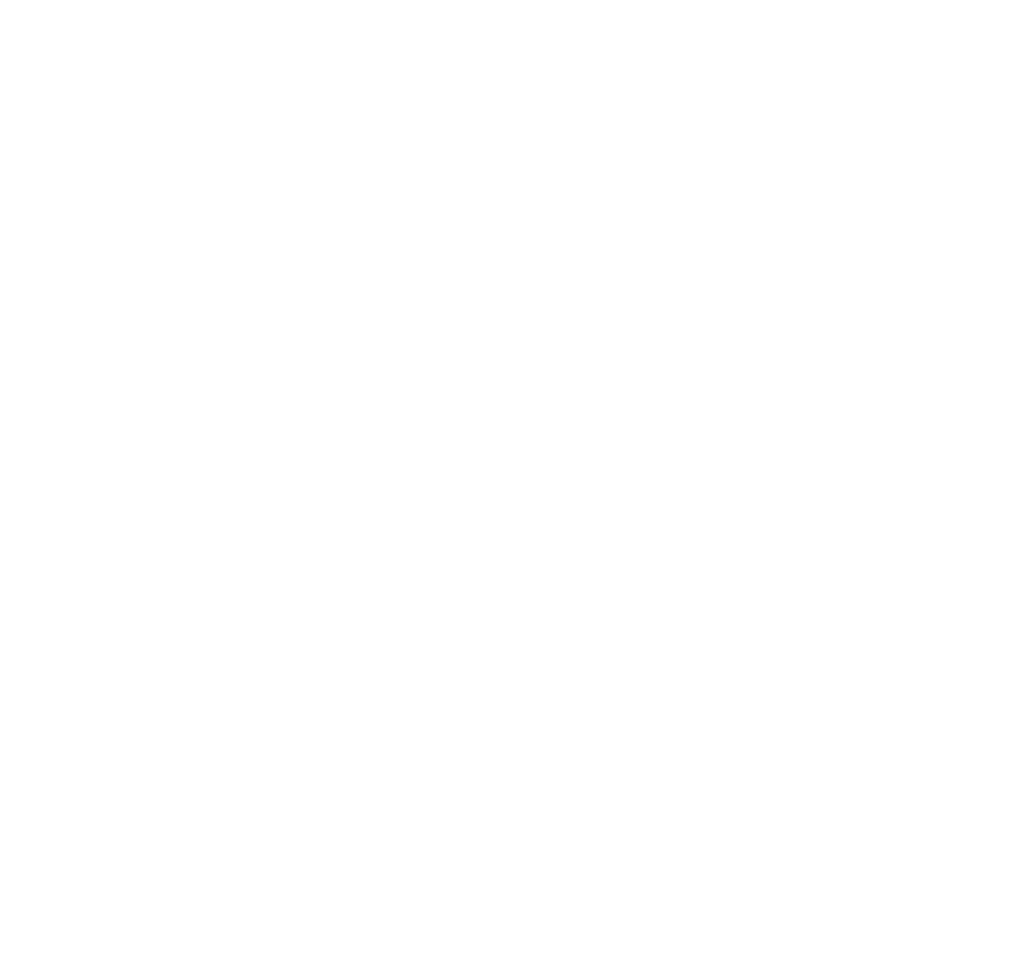
Когда реальность дурачится: сновидения на грани
Я просыпаюсь... но вроде бы ещё сплю. Наверное, это сон во сне — классика жанра. Сначала всё кажется как обычно: потолок в пятнах незадачливых теней, старый светильник, который чихает электрической пылью.
Но…
…сразу же начинает играть своя музыка — та, что внутри моей головы, и никто вокруг её не слышит. Мелодия странная, смешанная из звуков далёких статических помех, будто радио ловит каналы, которых не существует.
Я пытаюсь пошевелиться, однако мои руки будто привязаны невидимыми нитям. К чему? Не знаю.
Смотрю вниз — у меня есть ноги, но они раздвоенные, как лапы какого-то монстра из детских страшилок. Они дрожат и скользят по полу, который то мягкий, как пух, то колючий, как шипы редчайших кактусов. Боль и лёгкость переплетаются, и я не могу понять, где реальность, а где — игра моего разума.
Пытаюсь сказать что-то — выходит только эхо, которое дразнит меня и повторяет каждое слово с задержкой и искажением, словно смеётся, а не утешает. Я зову себя по имени, а в ответ слышу новое имя, которое я никогда раньше не слышал — что-то вроде «Крисп». Нет, я не Крисп... или может быть?
Затем вокруг собирается толпа. Они — как улыбки, которые ты никогда не видел, но чувствуешь их одновременно добрыми и зловещими. Их лица постоянно меняются, словно они играют в прятки со временем и памятью. Они шепчут — но это не просто слова, а смесь мыслей и эмоций, которые переливаются прямо в мою голову, как горячее молоко с каплей ядреного чая.
«Ты не один», — говорят они.
«Но ты не с нами». Вместе и врозь.
Они поднимают руки — а я вижу, как пальцы превращаются в длинные лепестки, плетущих ковер из огня и снега. Этот ковер разворачивается и захватывает меня в вихрь безумия и ясности, где всё одновременно и есть, и нет.
Появляется окно — старое, но сияющее странным светом, который не похож ни на солнце, ни на электрический лампадный свет. Я тянусь к нему рукой, но моё тело рассыпается на пузыри мыльные и угольные всполохи.
Самопонимание ускользает, как мокрый песок в сквозь пальцы. И тут я понимаю: я — одновременно смотрящий и тот, кому смотрят. Засыпать рядом, просыпаться внезапно — и плакать тихо о том, что не понять самому себе.
В какой-то момент появляется голос — он вполне дружелюбен, но с оттенком грусти.
«Ты смотришь на меня? Или это я смотрю на тебя?».
Это голос, который мог бы принадлежать лучу света, танцующему в темной комнате. Он пытается объяснить, что реальность — это не то, что кажется, а то, что мы решаем переживать.
Вокруг меня множатся коридоры, двери, комнаты: каждая — новая история с противоположным смыслом, каждый шаг — как выбор между безумием и контролем. Иногда кажется, что я внутри огромного цирка теней, где клоуны — мои воспоминания, а звери — мои страхи. Они танцуют и смеются, устраивая спектакль, в котором главное — не понять, а почувствовать.
И вдруг появляется она — женщина в красном платье, но её лицо затенено. Она не говорит — просто протягивает руку и ведет меня за собой. Я иду, не зная, куда веду. За ней — свет, который меня меняет, который и обжигает, и лечит одновременно.
Лечит?
Внезапно мир меняется — я уже не один, но и не с ними. Я — синтез многих “я”, которые одновременно борются и дружат. Я словно бегу по кругу, где каждое окно — новая дорога, а каждая дверь — попытка найти себя.
Просыпаюсь? Пытаюсь проснуться? Но нет — я всё ещё в этом лабиринте, пока кто-то зовет меня по-настоящему, и свет начинает пробиваться сквозь цепи мыслей и образов.
И вот я снова в комнате, где всё началось. Тот же потолок, светильник, статические пятна. Только теперь я знаю: сон — как безумная игра, которую играю с самим собой.
И да — если чувствовать весь этот бред, то чувство потерянности значительно уменьшается. Потому что осознание — это уже маленькая победа в битве за ясность в мире, где границы между сном и явью, безумием и здравым смыслом растворены.
Но…
…сразу же начинает играть своя музыка — та, что внутри моей головы, и никто вокруг её не слышит. Мелодия странная, смешанная из звуков далёких статических помех, будто радио ловит каналы, которых не существует.
Я пытаюсь пошевелиться, однако мои руки будто привязаны невидимыми нитям. К чему? Не знаю.
Смотрю вниз — у меня есть ноги, но они раздвоенные, как лапы какого-то монстра из детских страшилок. Они дрожат и скользят по полу, который то мягкий, как пух, то колючий, как шипы редчайших кактусов. Боль и лёгкость переплетаются, и я не могу понять, где реальность, а где — игра моего разума.
Пытаюсь сказать что-то — выходит только эхо, которое дразнит меня и повторяет каждое слово с задержкой и искажением, словно смеётся, а не утешает. Я зову себя по имени, а в ответ слышу новое имя, которое я никогда раньше не слышал — что-то вроде «Крисп». Нет, я не Крисп... или может быть?
Затем вокруг собирается толпа. Они — как улыбки, которые ты никогда не видел, но чувствуешь их одновременно добрыми и зловещими. Их лица постоянно меняются, словно они играют в прятки со временем и памятью. Они шепчут — но это не просто слова, а смесь мыслей и эмоций, которые переливаются прямо в мою голову, как горячее молоко с каплей ядреного чая.
«Ты не один», — говорят они.
«Но ты не с нами». Вместе и врозь.
Они поднимают руки — а я вижу, как пальцы превращаются в длинные лепестки, плетущих ковер из огня и снега. Этот ковер разворачивается и захватывает меня в вихрь безумия и ясности, где всё одновременно и есть, и нет.
Появляется окно — старое, но сияющее странным светом, который не похож ни на солнце, ни на электрический лампадный свет. Я тянусь к нему рукой, но моё тело рассыпается на пузыри мыльные и угольные всполохи.
Самопонимание ускользает, как мокрый песок в сквозь пальцы. И тут я понимаю: я — одновременно смотрящий и тот, кому смотрят. Засыпать рядом, просыпаться внезапно — и плакать тихо о том, что не понять самому себе.
В какой-то момент появляется голос — он вполне дружелюбен, но с оттенком грусти.
«Ты смотришь на меня? Или это я смотрю на тебя?».
Это голос, который мог бы принадлежать лучу света, танцующему в темной комнате. Он пытается объяснить, что реальность — это не то, что кажется, а то, что мы решаем переживать.
Вокруг меня множатся коридоры, двери, комнаты: каждая — новая история с противоположным смыслом, каждый шаг — как выбор между безумием и контролем. Иногда кажется, что я внутри огромного цирка теней, где клоуны — мои воспоминания, а звери — мои страхи. Они танцуют и смеются, устраивая спектакль, в котором главное — не понять, а почувствовать.
И вдруг появляется она — женщина в красном платье, но её лицо затенено. Она не говорит — просто протягивает руку и ведет меня за собой. Я иду, не зная, куда веду. За ней — свет, который меня меняет, который и обжигает, и лечит одновременно.
Лечит?
Внезапно мир меняется — я уже не один, но и не с ними. Я — синтез многих “я”, которые одновременно борются и дружат. Я словно бегу по кругу, где каждое окно — новая дорога, а каждая дверь — попытка найти себя.
Просыпаюсь? Пытаюсь проснуться? Но нет — я всё ещё в этом лабиринте, пока кто-то зовет меня по-настоящему, и свет начинает пробиваться сквозь цепи мыслей и образов.
И вот я снова в комнате, где всё началось. Тот же потолок, светильник, статические пятна. Только теперь я знаю: сон — как безумная игра, которую играю с самим собой.
И да — если чувствовать весь этот бред, то чувство потерянности значительно уменьшается. Потому что осознание — это уже маленькая победа в битве за ясность в мире, где границы между сном и явью, безумием и здравым смыслом растворены.
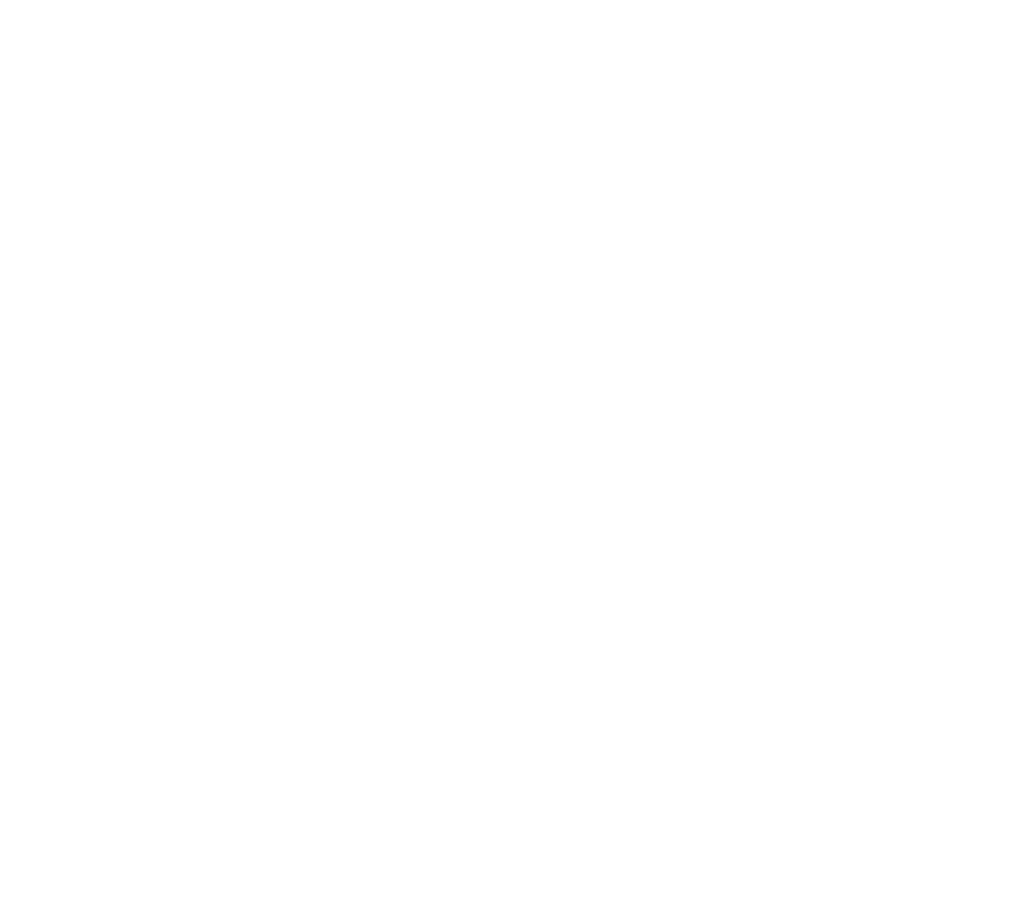
Судьба
Аннотация
В основе рассказа лежит реальный клинический случай. Однако, все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Это трогательный и живой рассказ о семье, которая преодолела множество испытаний, непростая история молодой мамы-подростка, принятие и поиск компромиссов. Читатель погружается в атмосферу искренних эмоций, силы любви и надежды.
В уютной спальне, где витал запах молодой зелени, в очередной раз тихо умирала надежда и опять появлялся холодный, липкий и неприятный страх. Настя стояла у окна, смотрела на зарождающееся утро и пыталась прогнать тягостные мысли. Слёз уже не было, осталось только отчаяние.
С каждым годом ожидания, с каждым месяцем, когда тест показывал одну полоску вместо двух, в сердце Анастасии поселялось все больше безысходности. Десять лет! Десять долгих, полных любви лет. Они поженились сразу после окончания меда. Молодые, влюблённые и счастливые. Она и Женя, ее обожаемый муж и коллега, всегда представляли, как будут держать на руках своего ребенка, как будут делиться радостями и трудностями родительских проблем. Но сейчас это казалось столь далеким, уже недостижимым.
Дверь открылась, неслышно зашёл Женя, ласковым взглядом пройдясь по жене. Он чувствовал состояние Насти.
- Ты не спала, - констатировал он, - выглядишь, как будто провела всю ночь на дежурстве,- подмигнул он, стараясь разрядить обстановку.
Она улыбнулась, но в глазах ее читалась грусть.
- В такие дни не могу избавиться от этих мыслей. Жень, почему мы не можем иметь детей? Каждый день вокруг нас на работе одни роды и новорожденные, а в семье…
Он подошел ближе, обнял её.
- Я тоже переживаю, Настя.
- Даже ЭКО не помогло!
Евгений понимал, что сейчас нужно сказать что-то важное, нужное, но не знал, что именно. За 10 лет вроде бы всё уже было произнесено. Но заговорил живо, описывал возможности, как они вместе смогут пройти через любые испытания, что их жизнь всегда будет полна смысла, ещё какую-то чушь, лишь бы не молчать. Настя прильнула к нему, ощущая его заботу и поддержку, и прикрыла глаза, чтобы скрыть накатившие слезы.
- Я люблю тебя, – сказали они вдруг одновременно.
- Будет все хорошо, Настя, – тихо произнес Евгений, прижимая ее к себе.
Они стояли так долго. В их уютном мире печаль была неизменной, но гораздо важнее была сила, что связывала их — надежда, любовь и общая мечта.
То утро начиналось как обычно — медленно, тихо и с теплым запахом только что сваренного кофе. За окном начинался новый день, а город еще казался дремлющим и неспешным.
В небольшой кухне уже стоял на столе завтрак: две чашки горячего кофе, тарелка с домашними оладьями и баночка с медом — такой уютный ритуал, который они не меняли с тех пор, когда только начали встречаться.
Женя подошёл к Насте, которая ловко переворачивала оладьи на сковороде.
— Ты опять плохо спала? — спросил он, усаживаясь за стол и беря в руки кружку с ароматным напитком.
— Да … — она вздохнула и посмотрела в окно, где медленно просыпался их район. — Всё еще прокручиваю в голове то, о чем мы вчера говорили.
— А что именно? — улыбнулся Евгений, поддерживая разговор лучшей поддержкой — своим вниманием.
— Ну, я не могу перестать думать о варианте… взять ребенка из детского дома. Знаешь, это настолько непросто. Но, если честно, мысль о том, что мы можем дать хоть одному малышу дом и семью... Я бы хотела попробовать!
Он кивнул, отпив глоток кофе
— Я тоже об этом думал весь вечер. Иногда мне кажется, что мы слишком долго ждали чуда, вместо того чтобы самим стать этим чудом для кого-то.
Настя улыбнулась и слегка коснулась его руки.
— Ты же знаешь, я всегда мечтала стать мамой. Но если биологически не складывается, то почему бы не подарить любовь ребенку, который так в ней нуждается?
— Именно! — с энтузиазмом согласился Евгений. — Мы можем дать ему все, что есть у нас: тепло, внимание, заботу, свою родительскую любовь.
Звонок на будильнике в телефоне Евгения напомнил им, что время не ждёт, и скоро придется выбираться в суету дня. Они быстро допили кофе, собрались и вышли на улицу.
Наконец-то они решились на этот шаг! Настроение у обоих отличное! Музыка? Конечно!
Пока едем на работу, Женя прокручивает в голове планы на день. Уже через несколько минут он станет Евгением Александровичем, а Настя – Анастасией Константиновной, акушер-гинеколог и неонатолог, идеальная пара дома и прекрасный тандем на работе.
— Помнишь, как мы познакомились? — вдруг спросила Настя.
— Как забыть? Ты тогда чуть не сбила меня с ног!
Они оба засмеялись, вспомнив студенческие годы.
Через несколько минут они подъехали к территории роддома, припарковались на своё обычное место. Большое здание встречало их привычным гулом серьёзных голосов коллег и стуком каблуков по плитке.
— Ну вот и наши будни, — сказал Евгений, открывая дверь, - скоро увидимся, Анастасия Константиновна,- улыбнулся, намекая, что сейчас они оба встретятся в родзале на очередных родах.
Настя глубоко вдохнула свежий утренний воздух, улыбнулась и, заходя следом за мужем, ответила:
— Увидимся, Евгений Александрович!
Зайдя в ординаторскую, они уже сознательно оставляли за спиной повседневные заботы, чтобы сосредоточиться на главном — на том, что действительно важно, на своей работе.
— Поехали встречать новую жизнь, — уверенно сказал Евгений, и она только кивнула в ответ.
Я вышел из родзала усталый. Роды были тяжёлые, но всё закончилось хорошо. Родилась девочка, Настя ей сейчас занимается.
— Евгений Александрович, вас вызывают в приёмный покой! Срочно!
— Иду, - кивнул я уже на ходу.
Когда поступал в мед, сочетание слов «приёмный покой» создавал у меня впечатление о тихом и спокойном месте, так как само слово "покой" вызывал мысли о тишине, уюте и комфорте. Однако! Как же я тогда заблуждался!
Суета и тревога – вот что такое «приёмный покой»: за его дверями, как правило, можно встретить нечто противоположное. Это первое место, куда приходят люди в состоянии стресса. А значит, это не просто "покой", а место, где начинается борьба за здоровье, часто и за жизнь.
Почти всегда в приемном покое людям требуется быстрая помощь, и ожидание может длиться долго, добавляя стресс и напряжение. Это не просто "покой", а место, где решаются критически важные вопросы.
«Возможно, стоит задуматься о более точном названии для этого отделения. Может быть, "приемный кризис" или "приемный стресс"? Это точно будет более соответствовать реальному состоянию дел!» - пронеслось в голове, пока спускался приёмное.
В приёмном покое всё как обычно, оживленно. Витающий запах антисептика и приглушённые разговоры дополняли картину.
В фойе суетилась женщина — по виду строгая, но явно измотанная. Её глаза были полны тревоги, но в этом страхе пряталась нежность и нескончаемая любовь к девочке-подростку, которая держалась рядом с ней схватившись за живот, корчась периодически от боли, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть.
Мать производила впечатление деловой сильной женщины, слишком заботящейся о своей дочери, которая может одновременно варить борщ, решать тысячи бытовых проблем и, при этом, не терять своего жизненного оптимизма. Её лицо — смешение усталости и решимости, а в голосе ощущалась горечь и паника.
Дочь — подросток лет четырнадцати, казалась хрупкой и согнутой так, будто весь мир вместе с болью сконцентрированы в её животе.
Вся сцена напоминала мне привычный сюжет, который я видел много раз. Диагноз налицо, как говорится.
— Доктор! Почему вы ждёте? Немедленно госпитализируйте мою дочь! — мать бросилась к первому попавшемуся человеку, видимо, не заметив меня. — Это миома! Она у неё уже давно растёт, нужна операция! Срочно! — её голос звучал громко и раздражённо.
Мой коллега из гинекологического отделения с вздохом посмотрел на девочку, и я увидел, что она вот-вот разревётся.
— Здравствуйте, Евгений Александрович!
— Здравствуйте, - ответил, - присоединюсь? – обращаюсь больше к матери, потому что коллега сам вызвал меня сюда.
В голове крутился вопрос:
«Какая миома?! Тут же с закрытыми глазами ясно, что девочка на последнем сроке беременности!».
В ходе опроса мамы с дочкой выяснили: девочка совсем — четырнадцать лет, и эта «миома» якобы растёт у неё уже девять месяцев. И всё последнее время она не могла нормально ходить, живот причинял сильную боль и «опухал» всё больше.
Я спросил:
— Как так получилось? Почему вы не пришли к врачу раньше?
Женщина посмотрела на меня с возмущением и молвила почти тоном обвинения:
— У нас в семье такого не может быть! Это просто невозможно! Она не может быть беременна! Она про ЭТО не знает!
Я спросил мягче, стараясь сдержать себя:
— Мама, а когда вы в последний раз говорили с дочерью об ЭТОМ? Вы рассказывали ей про беременность? Про то, как появляются дети?
Женщина замолчала. Взглядом она готова была меня растерзать. Её глаза широко открылись, подчеркивая интенсивность эмоций, губы сжались в недовольстве. А затем она… отвела глаза и произнесла:
— Да что вы! Мы не привыкли к таким разговорам. Ей ещё рано! Мы ведь не хотим портить ей детство.
— Она уже знает, что такое секс, — тихо сказал я, — но не знала, что от этого может наступить беременность. Вот и получилось, что воспринимала растущий живот как болезнь, про которую где-то слышала. Как миому.
— Беременность?! — возмутилась мать, — С какой стати это беременность? Это опухоль! Миома!
Девочку тем временем, сделав УЗИ, оформили в отделение гинекологии, рано ей ещё к нам рожать, пару недель подождать нужно.
А я продолжал разговор с матерью:
— Послушайте, миома — это опухоль матки. Она не растёт ровно девять месяцев, у неё нет сердцебиения. А ребёнок, который появится на свет в скором времени это настоящая, полноценная жизнь.
Женщина молчала, и я видел — у неё страх, но не за дочь, а за себя, за свой стыд, за то, что же скажут их знакомые. Стало жаль девочку.
— Почему вы не рассказывали дочери о последствиях интимной жизни? — спросил я снова, осторожно.
Она опустила глаза:
— Я не знаю, как… Как говорят: «пока рано, лучше подождать, потом всё само рассосётся».
— А оно не рассосалось, — произнёс я с горечью.
— Я думала, если она мало знает, ничего не случится, — почти шёпотом сказала женщина.
— Но теперь она знает, — продолжил я, — что незнание бывает опасно.
— Ты должна оставить его здесь, в роддоме— слова были произнесены тоном, от которого у Марины сжалось сердце.
— Но мама, — начала говорить девочка, полная противоречивых чувств, — я не могу! Он… он мой!
— Ты не понимаешь, — перебила её мать. — Тебе всего 14 лет. У тебя нет ни сил, ни средств. Ты не сможешь воспитать его одна!
Марина плакала часто и долго, после каждого прихода её матери. Медсёстры жалели её, уговаривали не оставлять ребёнка. Внутри неё шло настоящее сражение — любовь к ещё не рожденному малышу и голос матери, который недвусмысленно даже не говорил, а напирал: «Это слишком тяжело, ты этого не хочешь! Оставь его!». И голос матери в голове Марины постепенно стал звучать всё громче и громче.
Настя стояла в родильном зале, готовясь к предстоящим родам. В воздухе чувствовалась напряженность, и она знала, что сегодня ей предстоит встретиться с чем-то большим, чем просто рутинная работа. Сейчас привезут Марину. История 14-летней девочки глубоко тронула её. За Марину переживали все, зная, как нелегко ей приходится.
— Анастасия Константиновна, вы готовы? — спросила её акушерка. — Это будут трудные роды для всех нас.
— Да, у меня всё готово, — ответила Настя, проверяя оборудование. Аппарат для вентиляции, аспиратор, теплый стол — всё в порядке.
Роды действительно проходили непросто и долго. Когда в родильном раздался крик малыша, внутри неё что-то трепетнуло.
— По шкале Апгар 7 баллов, — быстро зафиксировала Настя, глядя на крошечного мальчика. Его маленькие ручки подрагивали. — Ну, давай, малыш, покажи нам, что ты готов к жизни!
Когда она начала очищать дыхательные пути аспиратором, акушерка посмотрела с напряжением.
— Анастасия Константиновна, всё будет в порядке?
— Всё будет хорошо, — с уверенностью произнесла Настя.
Она измерила его вес, рост и окружность головы, не упуская ничего.
— С ним все в порядке, — сказала она. — Он крепенький.
Она завернула мальчика в пелёнку и поместила его в кувез.1
В тот же день вечером Анастасия Константиновна зашла в палату Марины. Она прекрасно знала ситуацию девочки, каждый день заходила к ней в палату до родов, пыталась разговорить, но Марина на контакт не шла. Совсем. Подозревая, что та действительно решила оставить ребенка в роддоме, Настя решила попытаться поговорить с ней в последний раз.
Молодая мама лежала на кровати, повернувшись к стене. Казалось, она просто спит, но это было не так.
—Я понимаю, что сейчас тебе очень трудно и ты ощущаешь себя растерянной. Могу я спросить, что именно тебя привело к мысли оставить малыша в роддоме?
—Я не знаю, что с ним делать... Я… слишком молодая, это слишком сложно… Я не хочу, чтобы моя жизнь разрушилась...- тихо заплакала Марина.
— Такие чувства испытывают многие молодые мамы. – вздохнула Настя. - Быть мамой в твоём возрасте — действительно большое испытание. Но знаешь, у тебя есть сила, и ты не одна в этом. Есть же люди, которые смогут помочь тебе, поддержать тебя и малыша?
— Кто? У меня только мама! А она сказала, что, если я не откажусь от ребёнка, она откажется от меня! Куда я пойду в 14 лет?
Настя не знала, что сказать.
— Я просто устала, у меня нет сил. - помолчав, Марина добавила, - а ещё мне нужно закончить школу…
Настя молча пошла в сторону двери.
— Анастасия Константиновна! Спасибо вам! Я знаю, вы хотите, как лучше, но я не могу сейчас оставить Кирюшу. И… я буду о нём помнить всегда…
Эпилог
На улице солнечный августовский день, и в воздухе как будто витает предвкушение нового учебного года. Женя и Настя, с нетерпением переглядываясь, готовились к важному событию — их сын Кирюша 1 сентября пойдёт в первый класс. А сегодня они планировали отправиться в торговый центр, чтобы купить все необходимые вещи для школы.
— Мам, пап, а когда мы уже пойдем в магазин? — выпалил Кирюша, подпрыгивая в нетерпении.
— Скоро, солнышко, — улыбнулась Настя. — Ты готов?
— Да, я хочу выбрать рюкзак с динозаврами! — закричал Кирюша, глаза его светились от восторга.
Женя посмотрел на Настю и тихо сказал:
— Мне кажется, он готов ко всему.
Как только они прибыли в торговый центр, Кирюша с радостью побежал вперёд.
— Вау, смотрите, как много рюкзаков! — закричал он, указывая на витрину.
Настя и Женя обменялись понимающими взглядами и улыбнулись. Они понимали, что этот день — важный не только для Кирюши, но и для них самих. Изменив свою жизнь ради этого замечательного мальчика 7 лет назад, они ощущали, что сделали счастливыми не только себя, но и этого малыша. Их сына. Тогда, 7 лет назад, оформление бумаг было настоящим испытанием, но всё это приближало их к заветной цели. Заполняли бесконечные анкеты, проходили собеседования, отвечали на вопросы. И добились полного счастья.
— Так, давай найдем рюкзак с динозаврами, — сказал Женя, беря Кирюшу за руку.
— Да, да, пап, пошли скорее! — мальчик засиял, ему было интересно и весело.
Когда они подошли к стенду с рюкзаками, Кирюша начал бегать от одного рюкзака к другому.
— Вот этот! — закричал он, хватая один из рюкзаков с красочными динозаврами. — Он такой классный!
— Да, он действительно симпатичный, — поддержала его Настя. — А как насчет тетрадей, формы и всего остального? Нужно много куда зайти. Пошли!
Скоро, устав от множества впечатлений, они решили сделать перерыв и остановились в уютной кафешке.
Внутри торгового центра было шумно и многолюдно. Запах свежей выпечки и сладостей в кафе действовал расслабляюще. Вдруг Женя заметил её — знакомое лицо среди множества детей и родителей. Сердце замерло, когда он понял, кто это. Это была Марина, биологическая мать Кирюши!
Она была не одна. С ней был молодой человек, который заботливо её приобнимал. Марина улыбалась ему, но словно почувствовав, что на неё кто-то смотрит, оглянулась в сторону Жени, Насти и Кирюши. Улыбка медленно сошла с её лица.
Теперь уже красивая девушка, Марина медленно встала из-за своего столика и пошла к их сторону. Женя с Настей сразу заметили, что она беременна.
Женя приобнял Настю. Ей явно не хватало тактильного контакта, и он буквально укутал её в свои объятия, стараясь успокоить.
Марина медленно подошла к их столику, её лицо отражало смесь эмоций — удивление, смятение, и, возможно, растерянность.
— Здравствуйте, Анастасия Константиновна и Евгений Александрович, — тихо произнесла Марина, когда встала перед ними. Она посмотрела на Кирюшу, который смирно сидел и внимательно разглядывал незнакомую женщину, словно почувствовав, что что-то происходит, но не понимал, как именно это касается его.
— Привет, Марина, — ответила Настя. — Как ты?
— Я... хорошо, в целом, — начала она, переводя взгляд на сына.
— Кирюш, иди, купи себе мороженое, - сказал Женя, протягивая мальчику деньги. У малыша загорелись глаза, и он вприпрыжку побежал к прилавку.
— Кирюша! – потрясённо произнесла Марина, глядя вслед мальчику. – Вы не представляете, я плачу почти каждую ночь, думая где сейчас мой сын…
— Мы его сразу усыновили, он теперь наш сын! – напряженно произнесла Настя.
Марина улыбнулась и смахнула появившуюся слезу, которая скатилась по щеке.
—Он такой счастливый. И я безмерно благодарна вам за то, что вы так хорошо о нём заботитесь, — её голос дрогнул от эмоций.
Подошёл её молодой человек, Марина сделала глубокий вдох и, собравшись с силами, продолжила:
— Влад, этот мальчик – Кирюша!
По парню было видно, что он знал всю историю Марины, потому что не удивился, а обнял её и заботливо спросил:
— Ты в порядке?
— Да, конечно! Теперь я спокойна по поводу сына, спасибо вам!,- сказала она, обращаясь уже к Жене и Насте. - Я вышла замуж недавно.
Марина посмотрела на Влада.
— Муж знает о Кирюше. Он поддерживал меня всё время со времени нашего знакомства.
И, помолчав, добавила несмело:
— У Кирюши ведь есть право знать, кто его настоящая мама?
Женя и Настя обменялись взглядами, и в воздухе повисло напряжение.
— Ты хочешь видеться с ним? — осторожно спросил Женя.
— Да, я бы хотела, но понимаю, что не имею на это никаких прав.
— Мы ещё ничего ему не рассказывали, но планировали сделать это чуть позже, когда он будет готов к такой информации.
Марина кивнула, соглашаясь.
Женя улыбнулся:
— Давайте начнем с небольших шагов. Мы можем встретиться еще раз и попробовать дружить семьями.
— Да, это было бы здорово, — тихо согласилась Марина.
Так получилось, что судьба подбросила им эту неожиданную встречу, свела всех в нужное время в одном месте и теперь они совместно попробуют построить своё новое, яркое завтра.
***
1 – Кувез или кювез — это специальное устройство с прозрачными стенками, через которые можно наблюдать за малышом. В нем создан оптимальный искусственный микроклимат с определенными параметрами: содержанием кислорода — 25–40%, влажностью — 85–100%, температурой — 33–38ºC. В кювез малышей помещают по нескольким причинам: для согревания, улучшения кислородной насыщаемости крови, предохранения от охлаждения тела.
В основе рассказа лежит реальный клинический случай. Однако, все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Это трогательный и живой рассказ о семье, которая преодолела множество испытаний, непростая история молодой мамы-подростка, принятие и поиск компромиссов. Читатель погружается в атмосферу искренних эмоций, силы любви и надежды.
В уютной спальне, где витал запах молодой зелени, в очередной раз тихо умирала надежда и опять появлялся холодный, липкий и неприятный страх. Настя стояла у окна, смотрела на зарождающееся утро и пыталась прогнать тягостные мысли. Слёз уже не было, осталось только отчаяние.
С каждым годом ожидания, с каждым месяцем, когда тест показывал одну полоску вместо двух, в сердце Анастасии поселялось все больше безысходности. Десять лет! Десять долгих, полных любви лет. Они поженились сразу после окончания меда. Молодые, влюблённые и счастливые. Она и Женя, ее обожаемый муж и коллега, всегда представляли, как будут держать на руках своего ребенка, как будут делиться радостями и трудностями родительских проблем. Но сейчас это казалось столь далеким, уже недостижимым.
Дверь открылась, неслышно зашёл Женя, ласковым взглядом пройдясь по жене. Он чувствовал состояние Насти.
- Ты не спала, - констатировал он, - выглядишь, как будто провела всю ночь на дежурстве,- подмигнул он, стараясь разрядить обстановку.
Она улыбнулась, но в глазах ее читалась грусть.
- В такие дни не могу избавиться от этих мыслей. Жень, почему мы не можем иметь детей? Каждый день вокруг нас на работе одни роды и новорожденные, а в семье…
Он подошел ближе, обнял её.
- Я тоже переживаю, Настя.
- Даже ЭКО не помогло!
Евгений понимал, что сейчас нужно сказать что-то важное, нужное, но не знал, что именно. За 10 лет вроде бы всё уже было произнесено. Но заговорил живо, описывал возможности, как они вместе смогут пройти через любые испытания, что их жизнь всегда будет полна смысла, ещё какую-то чушь, лишь бы не молчать. Настя прильнула к нему, ощущая его заботу и поддержку, и прикрыла глаза, чтобы скрыть накатившие слезы.
- Я люблю тебя, – сказали они вдруг одновременно.
- Будет все хорошо, Настя, – тихо произнес Евгений, прижимая ее к себе.
Они стояли так долго. В их уютном мире печаль была неизменной, но гораздо важнее была сила, что связывала их — надежда, любовь и общая мечта.
То утро начиналось как обычно — медленно, тихо и с теплым запахом только что сваренного кофе. За окном начинался новый день, а город еще казался дремлющим и неспешным.
В небольшой кухне уже стоял на столе завтрак: две чашки горячего кофе, тарелка с домашними оладьями и баночка с медом — такой уютный ритуал, который они не меняли с тех пор, когда только начали встречаться.
Женя подошёл к Насте, которая ловко переворачивала оладьи на сковороде.
— Ты опять плохо спала? — спросил он, усаживаясь за стол и беря в руки кружку с ароматным напитком.
— Да … — она вздохнула и посмотрела в окно, где медленно просыпался их район. — Всё еще прокручиваю в голове то, о чем мы вчера говорили.
— А что именно? — улыбнулся Евгений, поддерживая разговор лучшей поддержкой — своим вниманием.
— Ну, я не могу перестать думать о варианте… взять ребенка из детского дома. Знаешь, это настолько непросто. Но, если честно, мысль о том, что мы можем дать хоть одному малышу дом и семью... Я бы хотела попробовать!
Он кивнул, отпив глоток кофе
— Я тоже об этом думал весь вечер. Иногда мне кажется, что мы слишком долго ждали чуда, вместо того чтобы самим стать этим чудом для кого-то.
Настя улыбнулась и слегка коснулась его руки.
— Ты же знаешь, я всегда мечтала стать мамой. Но если биологически не складывается, то почему бы не подарить любовь ребенку, который так в ней нуждается?
— Именно! — с энтузиазмом согласился Евгений. — Мы можем дать ему все, что есть у нас: тепло, внимание, заботу, свою родительскую любовь.
Звонок на будильнике в телефоне Евгения напомнил им, что время не ждёт, и скоро придется выбираться в суету дня. Они быстро допили кофе, собрались и вышли на улицу.
Наконец-то они решились на этот шаг! Настроение у обоих отличное! Музыка? Конечно!
Пока едем на работу, Женя прокручивает в голове планы на день. Уже через несколько минут он станет Евгением Александровичем, а Настя – Анастасией Константиновной, акушер-гинеколог и неонатолог, идеальная пара дома и прекрасный тандем на работе.
— Помнишь, как мы познакомились? — вдруг спросила Настя.
— Как забыть? Ты тогда чуть не сбила меня с ног!
Они оба засмеялись, вспомнив студенческие годы.
Через несколько минут они подъехали к территории роддома, припарковались на своё обычное место. Большое здание встречало их привычным гулом серьёзных голосов коллег и стуком каблуков по плитке.
— Ну вот и наши будни, — сказал Евгений, открывая дверь, - скоро увидимся, Анастасия Константиновна,- улыбнулся, намекая, что сейчас они оба встретятся в родзале на очередных родах.
Настя глубоко вдохнула свежий утренний воздух, улыбнулась и, заходя следом за мужем, ответила:
— Увидимся, Евгений Александрович!
Зайдя в ординаторскую, они уже сознательно оставляли за спиной повседневные заботы, чтобы сосредоточиться на главном — на том, что действительно важно, на своей работе.
— Поехали встречать новую жизнь, — уверенно сказал Евгений, и она только кивнула в ответ.
Я вышел из родзала усталый. Роды были тяжёлые, но всё закончилось хорошо. Родилась девочка, Настя ей сейчас занимается.
— Евгений Александрович, вас вызывают в приёмный покой! Срочно!
— Иду, - кивнул я уже на ходу.
Когда поступал в мед, сочетание слов «приёмный покой» создавал у меня впечатление о тихом и спокойном месте, так как само слово "покой" вызывал мысли о тишине, уюте и комфорте. Однако! Как же я тогда заблуждался!
Суета и тревога – вот что такое «приёмный покой»: за его дверями, как правило, можно встретить нечто противоположное. Это первое место, куда приходят люди в состоянии стресса. А значит, это не просто "покой", а место, где начинается борьба за здоровье, часто и за жизнь.
Почти всегда в приемном покое людям требуется быстрая помощь, и ожидание может длиться долго, добавляя стресс и напряжение. Это не просто "покой", а место, где решаются критически важные вопросы.
«Возможно, стоит задуматься о более точном названии для этого отделения. Может быть, "приемный кризис" или "приемный стресс"? Это точно будет более соответствовать реальному состоянию дел!» - пронеслось в голове, пока спускался приёмное.
В приёмном покое всё как обычно, оживленно. Витающий запах антисептика и приглушённые разговоры дополняли картину.
В фойе суетилась женщина — по виду строгая, но явно измотанная. Её глаза были полны тревоги, но в этом страхе пряталась нежность и нескончаемая любовь к девочке-подростку, которая держалась рядом с ней схватившись за живот, корчась периодически от боли, стиснув зубы, чтобы не вскрикнуть.
Мать производила впечатление деловой сильной женщины, слишком заботящейся о своей дочери, которая может одновременно варить борщ, решать тысячи бытовых проблем и, при этом, не терять своего жизненного оптимизма. Её лицо — смешение усталости и решимости, а в голосе ощущалась горечь и паника.
Дочь — подросток лет четырнадцати, казалась хрупкой и согнутой так, будто весь мир вместе с болью сконцентрированы в её животе.
Вся сцена напоминала мне привычный сюжет, который я видел много раз. Диагноз налицо, как говорится.
— Доктор! Почему вы ждёте? Немедленно госпитализируйте мою дочь! — мать бросилась к первому попавшемуся человеку, видимо, не заметив меня. — Это миома! Она у неё уже давно растёт, нужна операция! Срочно! — её голос звучал громко и раздражённо.
Мой коллега из гинекологического отделения с вздохом посмотрел на девочку, и я увидел, что она вот-вот разревётся.
— Здравствуйте, Евгений Александрович!
— Здравствуйте, - ответил, - присоединюсь? – обращаюсь больше к матери, потому что коллега сам вызвал меня сюда.
В голове крутился вопрос:
«Какая миома?! Тут же с закрытыми глазами ясно, что девочка на последнем сроке беременности!».
В ходе опроса мамы с дочкой выяснили: девочка совсем — четырнадцать лет, и эта «миома» якобы растёт у неё уже девять месяцев. И всё последнее время она не могла нормально ходить, живот причинял сильную боль и «опухал» всё больше.
Я спросил:
— Как так получилось? Почему вы не пришли к врачу раньше?
Женщина посмотрела на меня с возмущением и молвила почти тоном обвинения:
— У нас в семье такого не может быть! Это просто невозможно! Она не может быть беременна! Она про ЭТО не знает!
Я спросил мягче, стараясь сдержать себя:
— Мама, а когда вы в последний раз говорили с дочерью об ЭТОМ? Вы рассказывали ей про беременность? Про то, как появляются дети?
Женщина замолчала. Взглядом она готова была меня растерзать. Её глаза широко открылись, подчеркивая интенсивность эмоций, губы сжались в недовольстве. А затем она… отвела глаза и произнесла:
— Да что вы! Мы не привыкли к таким разговорам. Ей ещё рано! Мы ведь не хотим портить ей детство.
— Она уже знает, что такое секс, — тихо сказал я, — но не знала, что от этого может наступить беременность. Вот и получилось, что воспринимала растущий живот как болезнь, про которую где-то слышала. Как миому.
— Беременность?! — возмутилась мать, — С какой стати это беременность? Это опухоль! Миома!
Девочку тем временем, сделав УЗИ, оформили в отделение гинекологии, рано ей ещё к нам рожать, пару недель подождать нужно.
А я продолжал разговор с матерью:
— Послушайте, миома — это опухоль матки. Она не растёт ровно девять месяцев, у неё нет сердцебиения. А ребёнок, который появится на свет в скором времени это настоящая, полноценная жизнь.
Женщина молчала, и я видел — у неё страх, но не за дочь, а за себя, за свой стыд, за то, что же скажут их знакомые. Стало жаль девочку.
— Почему вы не рассказывали дочери о последствиях интимной жизни? — спросил я снова, осторожно.
Она опустила глаза:
— Я не знаю, как… Как говорят: «пока рано, лучше подождать, потом всё само рассосётся».
— А оно не рассосалось, — произнёс я с горечью.
— Я думала, если она мало знает, ничего не случится, — почти шёпотом сказала женщина.
— Но теперь она знает, — продолжил я, — что незнание бывает опасно.
— Ты должна оставить его здесь, в роддоме— слова были произнесены тоном, от которого у Марины сжалось сердце.
— Но мама, — начала говорить девочка, полная противоречивых чувств, — я не могу! Он… он мой!
— Ты не понимаешь, — перебила её мать. — Тебе всего 14 лет. У тебя нет ни сил, ни средств. Ты не сможешь воспитать его одна!
Марина плакала часто и долго, после каждого прихода её матери. Медсёстры жалели её, уговаривали не оставлять ребёнка. Внутри неё шло настоящее сражение — любовь к ещё не рожденному малышу и голос матери, который недвусмысленно даже не говорил, а напирал: «Это слишком тяжело, ты этого не хочешь! Оставь его!». И голос матери в голове Марины постепенно стал звучать всё громче и громче.
Настя стояла в родильном зале, готовясь к предстоящим родам. В воздухе чувствовалась напряженность, и она знала, что сегодня ей предстоит встретиться с чем-то большим, чем просто рутинная работа. Сейчас привезут Марину. История 14-летней девочки глубоко тронула её. За Марину переживали все, зная, как нелегко ей приходится.
— Анастасия Константиновна, вы готовы? — спросила её акушерка. — Это будут трудные роды для всех нас.
— Да, у меня всё готово, — ответила Настя, проверяя оборудование. Аппарат для вентиляции, аспиратор, теплый стол — всё в порядке.
Роды действительно проходили непросто и долго. Когда в родильном раздался крик малыша, внутри неё что-то трепетнуло.
— По шкале Апгар 7 баллов, — быстро зафиксировала Настя, глядя на крошечного мальчика. Его маленькие ручки подрагивали. — Ну, давай, малыш, покажи нам, что ты готов к жизни!
Когда она начала очищать дыхательные пути аспиратором, акушерка посмотрела с напряжением.
— Анастасия Константиновна, всё будет в порядке?
— Всё будет хорошо, — с уверенностью произнесла Настя.
Она измерила его вес, рост и окружность головы, не упуская ничего.
— С ним все в порядке, — сказала она. — Он крепенький.
Она завернула мальчика в пелёнку и поместила его в кувез.1
В тот же день вечером Анастасия Константиновна зашла в палату Марины. Она прекрасно знала ситуацию девочки, каждый день заходила к ней в палату до родов, пыталась разговорить, но Марина на контакт не шла. Совсем. Подозревая, что та действительно решила оставить ребенка в роддоме, Настя решила попытаться поговорить с ней в последний раз.
Молодая мама лежала на кровати, повернувшись к стене. Казалось, она просто спит, но это было не так.
—Я понимаю, что сейчас тебе очень трудно и ты ощущаешь себя растерянной. Могу я спросить, что именно тебя привело к мысли оставить малыша в роддоме?
—Я не знаю, что с ним делать... Я… слишком молодая, это слишком сложно… Я не хочу, чтобы моя жизнь разрушилась...- тихо заплакала Марина.
— Такие чувства испытывают многие молодые мамы. – вздохнула Настя. - Быть мамой в твоём возрасте — действительно большое испытание. Но знаешь, у тебя есть сила, и ты не одна в этом. Есть же люди, которые смогут помочь тебе, поддержать тебя и малыша?
— Кто? У меня только мама! А она сказала, что, если я не откажусь от ребёнка, она откажется от меня! Куда я пойду в 14 лет?
Настя не знала, что сказать.
— Я просто устала, у меня нет сил. - помолчав, Марина добавила, - а ещё мне нужно закончить школу…
Настя молча пошла в сторону двери.
— Анастасия Константиновна! Спасибо вам! Я знаю, вы хотите, как лучше, но я не могу сейчас оставить Кирюшу. И… я буду о нём помнить всегда…
Эпилог
На улице солнечный августовский день, и в воздухе как будто витает предвкушение нового учебного года. Женя и Настя, с нетерпением переглядываясь, готовились к важному событию — их сын Кирюша 1 сентября пойдёт в первый класс. А сегодня они планировали отправиться в торговый центр, чтобы купить все необходимые вещи для школы.
— Мам, пап, а когда мы уже пойдем в магазин? — выпалил Кирюша, подпрыгивая в нетерпении.
— Скоро, солнышко, — улыбнулась Настя. — Ты готов?
— Да, я хочу выбрать рюкзак с динозаврами! — закричал Кирюша, глаза его светились от восторга.
Женя посмотрел на Настю и тихо сказал:
— Мне кажется, он готов ко всему.
Как только они прибыли в торговый центр, Кирюша с радостью побежал вперёд.
— Вау, смотрите, как много рюкзаков! — закричал он, указывая на витрину.
Настя и Женя обменялись понимающими взглядами и улыбнулись. Они понимали, что этот день — важный не только для Кирюши, но и для них самих. Изменив свою жизнь ради этого замечательного мальчика 7 лет назад, они ощущали, что сделали счастливыми не только себя, но и этого малыша. Их сына. Тогда, 7 лет назад, оформление бумаг было настоящим испытанием, но всё это приближало их к заветной цели. Заполняли бесконечные анкеты, проходили собеседования, отвечали на вопросы. И добились полного счастья.
— Так, давай найдем рюкзак с динозаврами, — сказал Женя, беря Кирюшу за руку.
— Да, да, пап, пошли скорее! — мальчик засиял, ему было интересно и весело.
Когда они подошли к стенду с рюкзаками, Кирюша начал бегать от одного рюкзака к другому.
— Вот этот! — закричал он, хватая один из рюкзаков с красочными динозаврами. — Он такой классный!
— Да, он действительно симпатичный, — поддержала его Настя. — А как насчет тетрадей, формы и всего остального? Нужно много куда зайти. Пошли!
Скоро, устав от множества впечатлений, они решили сделать перерыв и остановились в уютной кафешке.
Внутри торгового центра было шумно и многолюдно. Запах свежей выпечки и сладостей в кафе действовал расслабляюще. Вдруг Женя заметил её — знакомое лицо среди множества детей и родителей. Сердце замерло, когда он понял, кто это. Это была Марина, биологическая мать Кирюши!
Она была не одна. С ней был молодой человек, который заботливо её приобнимал. Марина улыбалась ему, но словно почувствовав, что на неё кто-то смотрит, оглянулась в сторону Жени, Насти и Кирюши. Улыбка медленно сошла с её лица.
Теперь уже красивая девушка, Марина медленно встала из-за своего столика и пошла к их сторону. Женя с Настей сразу заметили, что она беременна.
Женя приобнял Настю. Ей явно не хватало тактильного контакта, и он буквально укутал её в свои объятия, стараясь успокоить.
Марина медленно подошла к их столику, её лицо отражало смесь эмоций — удивление, смятение, и, возможно, растерянность.
— Здравствуйте, Анастасия Константиновна и Евгений Александрович, — тихо произнесла Марина, когда встала перед ними. Она посмотрела на Кирюшу, который смирно сидел и внимательно разглядывал незнакомую женщину, словно почувствовав, что что-то происходит, но не понимал, как именно это касается его.
— Привет, Марина, — ответила Настя. — Как ты?
— Я... хорошо, в целом, — начала она, переводя взгляд на сына.
— Кирюш, иди, купи себе мороженое, - сказал Женя, протягивая мальчику деньги. У малыша загорелись глаза, и он вприпрыжку побежал к прилавку.
— Кирюша! – потрясённо произнесла Марина, глядя вслед мальчику. – Вы не представляете, я плачу почти каждую ночь, думая где сейчас мой сын…
— Мы его сразу усыновили, он теперь наш сын! – напряженно произнесла Настя.
Марина улыбнулась и смахнула появившуюся слезу, которая скатилась по щеке.
—Он такой счастливый. И я безмерно благодарна вам за то, что вы так хорошо о нём заботитесь, — её голос дрогнул от эмоций.
Подошёл её молодой человек, Марина сделала глубокий вдох и, собравшись с силами, продолжила:
— Влад, этот мальчик – Кирюша!
По парню было видно, что он знал всю историю Марины, потому что не удивился, а обнял её и заботливо спросил:
— Ты в порядке?
— Да, конечно! Теперь я спокойна по поводу сына, спасибо вам!,- сказала она, обращаясь уже к Жене и Насте. - Я вышла замуж недавно.
Марина посмотрела на Влада.
— Муж знает о Кирюше. Он поддерживал меня всё время со времени нашего знакомства.
И, помолчав, добавила несмело:
— У Кирюши ведь есть право знать, кто его настоящая мама?
Женя и Настя обменялись взглядами, и в воздухе повисло напряжение.
— Ты хочешь видеться с ним? — осторожно спросил Женя.
— Да, я бы хотела, но понимаю, что не имею на это никаких прав.
— Мы ещё ничего ему не рассказывали, но планировали сделать это чуть позже, когда он будет готов к такой информации.
Марина кивнула, соглашаясь.
Женя улыбнулся:
— Давайте начнем с небольших шагов. Мы можем встретиться еще раз и попробовать дружить семьями.
— Да, это было бы здорово, — тихо согласилась Марина.
Так получилось, что судьба подбросила им эту неожиданную встречу, свела всех в нужное время в одном месте и теперь они совместно попробуют построить своё новое, яркое завтра.
***
1 – Кувез или кювез — это специальное устройство с прозрачными стенками, через которые можно наблюдать за малышом. В нем создан оптимальный искусственный микроклимат с определенными параметрами: содержанием кислорода — 25–40%, влажностью — 85–100%, температурой — 33–38ºC. В кювез малышей помещают по нескольким причинам: для согревания, улучшения кислородной насыщаемости крови, предохранения от охлаждения тела.
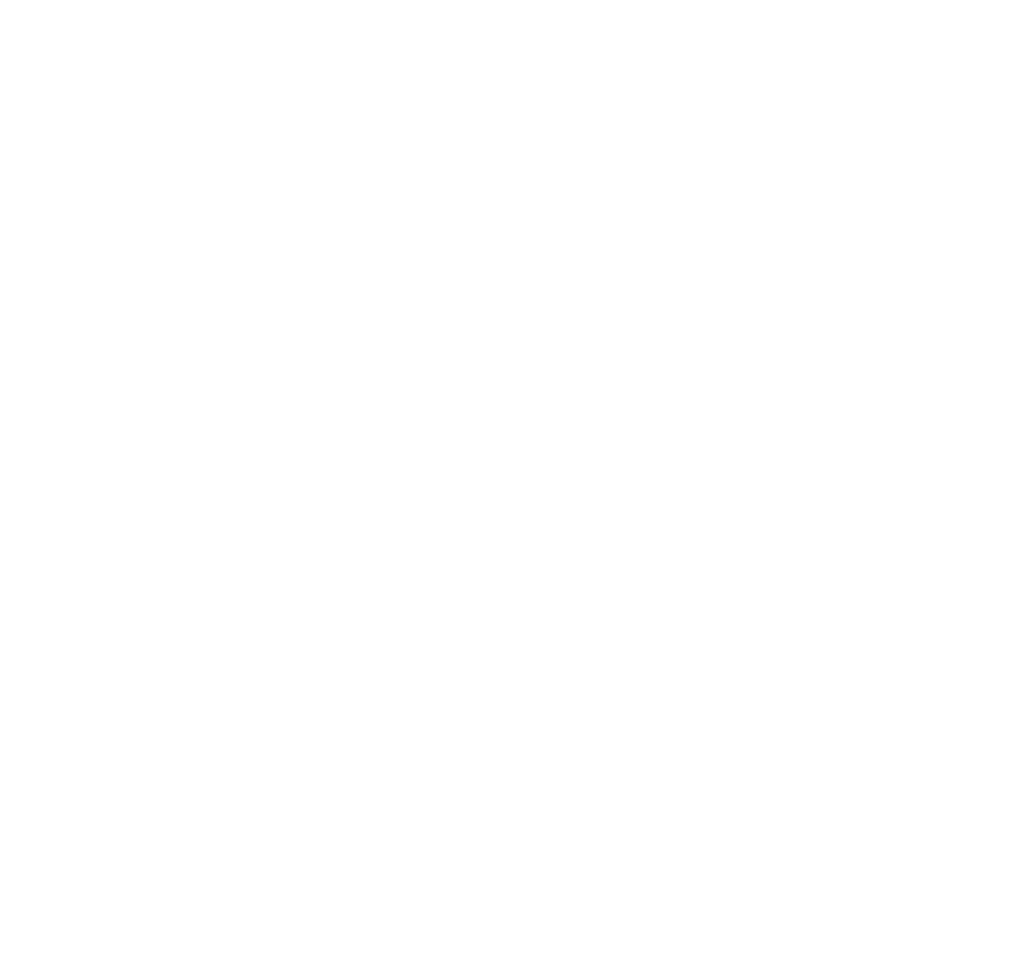
Разговор
Светлана сидела в своей комнате, прижав колени к груди, и смотрела на яркий блик июньского солнца через окно. Казалось, что этот свет не для неё — он просто висел в воздухе, холодный и далёкий. Внутри неё было темно. Глубоко, настолько глубоко, что даже самые сильные лучи не пробивались через бетонную стену отчаяния.
«Я не хочу ничего ни видеть, ни чувствовать. Хочу уйти навсегда...» — эта мысль разрывала её на части, будто была единственным ответом на то, что происходило внутри. Казалось, что весь мир против неё, будто никому не было дела до её боли, никто не слышит крик её души.
Светлана уже давно перестала говорить своих делах и проблемах с близкими — семья не понимала, а подруги казались поверхностными и занятыми своими делами.
Семья. Когда начинает думать о семье, сразу всплывает картинка… ну не совсем сказочная, мягко говоря. Если вкратце — родители всегда заняты. Очень заняты. Даже слишком. Не потому что у них были суперэкзотические и важные дела, а скорее потому, что их заботила собственная жизнь, работа и, можно сказать, «шаблонное» исполнение роли родителей — типа «ну кормим, одели, погладили»... и всё.
Отец Светланы, как он иногда сам говорил с гордостью, «человек дела», трудился в своём логистическом центре, где вечные дедлайны и совещания сменяли друг друга со скоростью света. Он приходил домой уставший настолько, что иногда забывал, почему вообще сел за стол. Общение с дочерью зачастую сводилось к сухому «как дела?» и «завтра не забудь учебники взять».
Мама же была занята своей карьерой в розничной торговле — ей, кстати, часто приходилось менять смены и подстраиваться под график, который с каждым месяцем становился всё жёстче. После работы её ждало море дел по дому, готовка, уборка, и, конечно, бесконечные разговоры по телефону с подругами или такими же, как и она, бедолагами по работе, но уже не о Светлане...
Всё вместе это создавало атмосферу постоянной нехватки времени и сил на того самого «главного человека» — дочери. И дело совсем не в том, что родители не любили Светлану. Наоборот, любовь была, но... мягко скажем, она была довольно абстрактная и далёкая: «Мы тебя любим, наша девочка, но сейчас не до разговоров, у нас свои дела».
Светлана же жила словно в параллельном мире — мир, где родители скорее обитали рядом, но её почти не замечали. Она пыталась привлечь их внимание — приносила свои рисунки, рассказывала о школьных успехах и проблемах, но чаще всего получала в ответ улыбку через полувзгляд (да, и такое бывает), усталое «спасибо» или «потом, мне некогда» и совет «не заморачивайся», который словно говорили роботы-автоматы в режиме «домашний робот».
Подруги. Они были не настоящими подругами в полном смысле слова, а скорее… временными спутницами, которые больше думали о себе, чем о настоящей дружбе.
Каждый день она ходила по школьным коридорам, чувствуя себя невидимкой, чужой среди других, тех, которые громко смеялись, строили планы, жили так, как будто всё просто и понятно. А у неё — пустота и холод.
За последние месяцы Светлана постоянно ощущала, как её мир рушится. Долгие часы, проведенные за учебой, не приносили радости, а лишь усиливали давление.
Девочка сидела в классе, вокруг неё звучали смех и разговоры, но она ощущала себя как будто в параллельной реальности, где шум становился невыносимым гулом, а её собственные мысли заткнули все остальные звуки.
"Как будто никто не видит меня," — думала она, чувствуя, как одиночество окутывает её, как холодный туман. Каждый взгляд одноклассников казался ей осуждающим, как будто они могли прочесть её мысли. Ощущение изоляции угнетало, и ей казалось, что даже стены класса смеялись над её слабостью.
В мысли часто приходила тревога о том, что её ждёт впереди. "А что, если я провалюсь на экзаменах?" – думала она, представляя, как это разочарует её родителей. Эти страхи создавали катастрофические сценарии в её голове, заполняя её сознание опасениями о будущем, которое казалось мрачным и безнадёжным.
Уроки давно закончились, а она никак не могла себя заставить подняться в квартиру на втором этаже, сидя на самой дальней скамейке во дворе. Здесь всегда было более пустынно и тихо.
"Никто не может понять, как я себя чувствую," — думала Светлана, и это чувство безысходности нарастало.
"Наверное, если я просто исчезну, то всем станет легче." Эти мысли были как тёмная тень, которая шептала ей на ухо: "Ты никому не важна." Это внутреннее состояние было похоже на бурю, разрывающую её суть, оставляя только ужас и безысходность.
Сегодня в школе всё было как обычно: звонки, уроки, шум коридоров и привычный гул разговоров.
Марина Петровна в последний месяц заметила, что её ученица совсем не такая, как обычно. Светлана, которая обычно сидела за партой с улыбкой и пыталась угнаться за материалом, теперь казалась какой-то тихой и рассеянной. Её взгляд был словно затянут в туман, а на лице играла усталость и, как показалось, безысходность.
После уроков Марина Петровна аккуратно подошла к девочке.
— Светлана, у тебя всё в порядке? — тихо спросила она. — Может, дома что-то случилось? Последнее время ты совсем какая-то не такая.
— Да… просто немного устала, — ответила Светлана, стараясь улыбнуться, но улыбка получилась кривоватой.
— Хм, устала… Ты уверена? — Марина Петровна посмотрела ей в глаза и улыбнулась мягко. — Знаешь, иногда усталость — это не просто отсутствие сил. Может, хочется поговорить?
Светлана молчала несколько секунд. Затем вздохнула.
— Просто многое навалилось. Вроде домашки много, с родителями не всегда понятно… И с подругами всё как-то не так, — призналась девочка тихо.
— Понимаю, — кивнула учительница, — знаешь, ты сейчас никуда не торопишься?
— Нет. – безучастно ответила девочка.
— Вот и хорошо. Пойдём со мной.
Инга Анатольевна работала в школе второй год. Сначала хотела открыть свою практику, но это оказалось не так легко. Ей предложили вакансию в школе временно, пока не найдут замену. Это «временно» растянулось уже на второй год.
Да, многие сначала не восприняли её всерьёз. Молодая, без опыта. Многие думали, что помощь нужна только тем, кто находится на краю пропасти. А в школе что? Обычная рутина. Нет причин обращаться.
А подростки в старших классах? Для них разговор с психологом просто невозможен. Они опасались, что их тайны будут раскрыты, особенно если это касается личных переживаний.
И это не говоря о том, что прежний психолог, старая учительница, уже 15 лет работающая на пенсии, в принципе не понимала что же такое «психология». И это только укрепило негативные стереотипы среди учеников.
Инга же Анатольевна была очень наблюдательным человеком. Она словно детектив чувств: умела улавливать тени переживаний и тонко чувствовать настроение даже в самых, казалось бы, «закрытых» подростках. При этом всегда сохраняла доброжелательность и уважение — ни капли осуждения или спешки, только поддержка и открытое сердце.
Часто нужно было и разбавить сложные разговоры лёгкой шуткой, чтобы снять напряжение и помочь ученикам расслабиться.
И, конечно, в её работе необходимо было много терпения. Ведь разговаривать с подростками — всё равно что пытаться посчитать звёзды на ночном небе: иногда долго, иногда запутанно, но всегда стоит того, чтобы не сдаваться.
К ней и повела Светлану Марина Петровна, зная, что Инга Анатольевна ещё на месте.
Светлана сидела в кабинете школьного психолога. В комнате было уютно — мягкие кресла, разноцветные подушки и небольшой аквариум со спокойными рыбками.
— Здравствуй, Света! Мы просто поговорим, как подружки. Что тебя тревожит?
— Здравствуйте, — ответила Светлана немного робко. — Да ничего… Я не знаю, просто в последнее время чувствую себя очень усталой. Бывает, что ничего не хочется делать, а дома мама с папой постоянно заняты.
— Понимаю, — внимательно слушала психолог. — А ты можешь рассказывать, когда именно начинаешь чувствовать себя такой усталой?
— Обычно вечером, — задумалась Светлана. — Но всегда кажется, что я одна. Все как будто слишком заняты своими проблемами, а я… я просто теряюсь.
— Это нормально, — улыбнулась Инга Анатольевна. — Бывает, что кажется, будто все вокруг заняты, а ты одна. Но ты не одна, Светлана, я, например, всегда тут. И ты можешь прийти и поговорить.
Светлана опустила глаза, голос дрожал:
— Я хочу больше ничего не видеть, не чувствовать. Хочу уйти навсегда.
В кабинете повисла тишина. Инга не прерывала, не перебивала — просто дышала вместе с девочкой, показывая, что она рядом. Потом сказала:
— Спасибо, что поделилась этим со мной, это очень важно. Мне жаль, что тебе сейчас так тяжело и больно. Можешь сказать, что именно заставляет тебя так чувствовать?
Светлана вздохнула, сжав кулаки:
— Всё кажется бессмысленным. Никто меня не понимает, я одна.
В ответ психолог взглянула ей в глаза и сказала:
— Я вижу, что сейчас тебе очень одиноко и кажется, что рядом нет никого, кто бы тебя поддержал. Это действительно тяжело — чувствовать себя в одиночестве. Ты бы хотела, чтобы мы вместе нашли способы, чтобы снять это чувство одиночества и боль? Я хочу помочь тебе.
Светлана заерзала на месте, голос у неё подрагивал:
— Не знаю, поможет ли мне что-то.
— Ты так чувствуешь сейчас, и это нормально. — голос Инги звучал тепло. — Но иногда даже маленькие шаги могут принести облегчение, даже если в моменте кажется, что ничего не изменится. Давай мы вместе подумаем, что могло бы тебе немного помочь прямо сейчас? Может, кто-то из твоих близких, или что-то, что доставляло тебе радость раньше?
Светлана помолчала.
— Я не знаю, — ответила наконец.
— Я понимаю, что сейчас трудно даже представить что-то положительное. — улыбка психолога была мягкой и обнадеживающей. — Но ты очень важна, для других людей, о которых ты пока не думаешь. Давай попробуем найти хотя бы одну маленькую вещь, которая поможет тебе пережить этот момент?
Света молчала. Потом она сказала тихо:
— Раньше я любила рисовать... Но уже не могу даже кисти взять в руки. Всё кажется таким бессмысленным.
— Рисование — прекрасное занятие. А что ты рисовала?
— Людей, природу... Иногда просто то, что видела вокруг.
Инга Анатольевна кивнула.
— Может, мы попробуем вспомнить, как ты рисовала? Не обязательно сразу взять кисть просто расслабиться и вспомнить те моменты.
— Не уверенна...
— Попробуй! Покажешь мне завтра свои рисунки?
— Если вам будет интересно. – неуверенно произнесла Света.
— Приноси! Я тоже рисовала когда-то, я покажу свои. Заходи завтра после уроков.
После ухода Светланы Инга Анатольевна задумалась. Она понимала, что эта встреча была лишь первым шагом на пути к пониманию и поддержке девочки. В голове у неё крутились мысли о том, как ей важно было установить с девочкой доверительные отношения. Инга прекрасно осознавала, что Светлана находится в состоянии, когда она чувствует себя изолированной и непонятой, и что ей нужно время, чтобы открыть свои чувства и переживания.
Инга задумалась о том, как она может помочь Светлане раскрыть себя. Ей пришло в голову предложить разные творческие способы самовыражения — не только рисование, но и, возможно, творчество через слова, музыку или другие искусства. Она вспомнила о своих собственных увлечениях в детстве и как они помогали ей в трудные времена. Это вдохновение заметно подстегнуло её – она хотела, чтобы Светлана нашла свою страсть и представила себе мир без негативных мыслей.
Кроме того, Инга обдумывала, как построить следующую встречу так, чтобы Светлана могла чувствовать себя комфортно в разговоре. Важным моментом оставалось создание безопасного пространства, где девочка могла бы открыться без страха быть непонятый или осужденной.
На следующий день после уроков Светлана пришла к Инге Анатольевне снова. Девочка выглядела немного более уверенной, хотя её глаза всё равно выдавали усталость и неуверенность. Инга встретила её с доброй улыбкой и предложила сразу же начать с вопроса о рисунках.
— Привет, Света! Как ты сегодня? Принесла свои рисунки? — спросила Инга.
— Здравствуйте, Инга Анатольевна… Да, вот, — немного робко ответила Светлана, доставая из рюкзака папку с рисунками. Девочка сомневалась понравятся ли её работы учителю, ведь родители обычно лишь отмахивались от неё, но всё же решила поделиться своими творениями.
Инга внимательно изучила все рисунки, разложив из на столе и отмечая детали с запечатлёнными на них эмоциями. Каждый штрих и цвет показывал те чувства, которые Светлана старалась выразить, которые её волновали.
— Это очень красиво, — произнесла Инга, поднимая один из рисунков. — Твой стиль оригинален, и я могу увидеть, как ты передаёшь свои эмоции через эти работы.
Светлана облегченно вздохнула, видя на лице учителя одобрение.
— Эти вещи просто вырываются из меня… Иногда я не могу или не хочу ничего говорить словами, только рисовать, — призналась она, немного открываясь.
— Это замечательно! Искусство — это отличный способ выразить себя. Как ты себя чувствовала, когда рисовала эти картины? — спросила Инга.
Светлана немного задумалась.
— Когда я рисую, это как будто в голове всё расставляется по местам. Но потом, когда заканчиваю, я всё равно чувствую себя одинокой.
— Ты ведь говорила, что часто чувствуешь себя изолированной. Что бы ты изменила, чтобы почувствовать себя более понятый и менее одинокой? — продолжила Инга, направляя разговор.
— Не знаю… Может, если бы кто-то просто… выслушал меня, — тихо ответила Светлана, её голос дрожал.
— И ты можешь так сделать! Ты уже сделала шаг к этому, придя ко мне, — сказала Инга, показывая, как важно открыться и делиться своими чувствами.
И они ещё долго беседовали.
Инга продолжала поддерживать Светлану, спрашивая о её мечтах и планах, стараясь понять, что бы могло дать ей надежду и мотивацию.
Они обсуждали её страхи, ориентируясь на то, как важно осознавать их, и как их можно преодолеть.
Инга предложила ей подумать о возможных стратегиях, которые могли бы помочь девочке чувствовать себя лучше в школе и дома.
Так началась их работа. Медленно, осторожно, без давления.
В течение многих встреч Инга Анатольевна помогала Светлане постепенно возвращать к жизни то, что раньше радовало.
Инга показывала девочке свои рисунки, они вместе обсуждали каждую работу. Постепенно раскрепощаясь, Света открыла в себе талант к критическому мышлению и перспективному видению не только в живописи.
Вместе они учили, а потом активно использовали на практике дыхательные упражнения — глубокие вдохи и медленные выдохи — которые помогали ей снизить уровень тревоги. Инга Анатольевна предложила ей вести маленький дневник, где каждый день записывать хоть одно положительное событие. Даже если это была капля дождя, звучащая по крыше, или улыбка прохожего.
Некоторые встречи были трудны, Светлана вновь начинала говорить, что ничего не меняется, ничего не помогает. Но психолог терпеливо поддерживала:
— Иногда прогресс не виден сразу, но он есть. Ты сильнее, чем думаешь.
Постепенно девочка начала замечать, как меняется её отношение к жизни. Она снова стала пробовать рисовать — сначала несколько мазков краски на листе, потом небольшие эскизы. Это возвращало ей ощущение контроля и радости.
В школе тоже произошли изменения — Марина Петровна связалась с родителями Светланы и поговорила с ними. Когда мама с папой поняли, что чуть не потеряли дочь, пришли в ужас. В доме начались новые разговоры — чаще, искренне, с интересом делами дочери.
Постепенно встречи Инги Анатольевны и Светланы стали реже. У будущей выпускницы началась активная подготовка к ЕГЭ, расписание дня у девочки было буквально расписано по минутам, ведь она очень хотела поступить в художественную академию Строганова.
Однажды, на очередной встрече, Светлана призналась:
— Иногда я все ещё думаю о том, чтобы уйти... Но теперь, когда я вижу, что может быть лучше, я боюсь потерять то, что начало возвращаться.
Психолог взглянула на неё с теплом:
— Это очень честно и смело с твоей стороны признаться в этом. Почувствовать страх — нормально. Давай подумаем вместе, что ты можешь сделать, если эти мысли станут для тебя слишком навязчивыми. Важно иметь план безопасности.
Они вместе составили простой план — что делать, если опять появятся суицидальные мысли: кому звонить, куда писать, какие техники использовать. Ведь когда у человека есть схема действий, ему легче справиться с кризисом.
— Ты всегда можешь позвонить мне или сразу прийти сюда.
Прошел год. Инга Анатольевна только что закончила консультацию и собиралась домой. Телефонный звонок прозвучал, когда она уже закрывала дверь в кабинет.
— Инга Анатольевна, вы ещё не ушли? Вас спрашивают у входа. – звонили с поста охраны школы.
— Да, уже иду.
Инга заметила Свету сразу. Было заметно, что девочка стала более уверенной в себе и буквально светилась от счастья. Лицо Инги расцвело широкой улыбкой ещё издалека, как только заметила теперь уже бывшую ученицу.
— Света! — воскликнула она, радостно обняв девушку. В этот момент Инга почувствовала тепло её объятий, несущее с собой множество воспоминаний о трудных временах, которые теперь остались позади. Эмоции переполняли её: гордость за девушку, которая так сильно изменилась, и счастье от того, что она смогла быть её частью.
Светлана, почувствовав этот искренний прием, улыбнулась ещё шире, и в её глазах блеснули слёзы радости. Она до сих пор помнила моменты отчаяния, когда открывала свои чувства перед Ингой Анатольевной. Она и теперь ощущала поток вдохновения и поддержки, который всегда дарила ей эта женщина.
— Здравствуйте, Инга Анатольевна! — произнесла Светлана с ярким сиянием на лице, которое никак невозможно было скрыть, да и не хотелось. — Я так рада вас видеть!
И добавила:
— Знакомьтесь, это Тимур, мой парень. А это Инга Анатольевна, мой школьный психолог.
Инга внимательно присмотрелась к Тимуру и улыбнулась уже ему. Он производил хорошее впечатление. У него были короткие темные волосы, аккуратно причесанные, и открытое, приветливое лицо. Его карие глаза полны тепла и доброты, когда он смотрел на Свету, что сразу же расположило к себе Ингу. Он молод, около двадцати лет, но было сразу заметно, что на этого молодого человека можно положиться.
Довольная встречей троица вышла из школы. Было решено зайти в ближайшую кофейню.
Инга села за столик, и Светлана, заметив её восхищенный взгляд, почувствовала прилив уверенности. В её сердце разожглось тепло, когда они начали обсуждать новости в школе за прошедший год. А потом Инга внимательно слушала, её глаза наполнялись гордостью за каждое слово, которое Светлана произносила о своих новых достижениях.
А Света говорила о своих проектах и новых друзьях, Инга не могла удержаться от смеха и восторга. Она ощущала, как её собственное сердце наполняется радостью от того, что помогла Светлане обрести себя.
— Спасибо вам, Инга Анатольевна, — сказала Светлана, немного смущаясь. — за то, что вы были рядом, когда мне было трудно. Ваши советы и поддержка изменили мою жизнь.
Инга искренне улыбнулась, почувствовав гордость за Светлану.
— Мне было приятно работать с тобой, Света. Ты сама сделала этот шаг, открывшись и работая над собой. Я просто показывала тебе путь.
— Но без вас я бы не смогла! Вы дали мне надежду и уверенность. Я научилась выражать себя, и теперь я чувствую, что могу свободно создавать. — Светлана продолжала с энтузиазмом.
Разговор плавно перетекал от воспоминаний об их встречах к свежим рассказам о творческих успехах Светланы. Инга задавала вопросы, интересуясь новыми проектами. Тимур добавлял свои взгляды на творчество и поддерживал Светлану.
Когда встреча подходила к концу, девушка сделала Инге подарок — небольшой рисунок, который набросала в последний день учебы в школе. На рисунке был изображен яркий пейзаж с цветами и светом, а на фоне него внимательное и доброе лицо Инги.
— Это для вас. Вы - тот человек, который помог мне поверить в себя, — сказала Светлана, протягивая рисунок.
— Это невероятно красиво, Света. Я очень горжусь тобой. Будь уверена, ты всегда можешь на меня рассчитывать.
Светлана и Тимур вышли из кофейни. Инга смотрела им вслед с улыбкой, понимая, насколько важно её дело. Она чувствовала, что помощь другим приносит настоящую отдачу и счастье.
«Я не хочу ничего ни видеть, ни чувствовать. Хочу уйти навсегда...» — эта мысль разрывала её на части, будто была единственным ответом на то, что происходило внутри. Казалось, что весь мир против неё, будто никому не было дела до её боли, никто не слышит крик её души.
Светлана уже давно перестала говорить своих делах и проблемах с близкими — семья не понимала, а подруги казались поверхностными и занятыми своими делами.
Семья. Когда начинает думать о семье, сразу всплывает картинка… ну не совсем сказочная, мягко говоря. Если вкратце — родители всегда заняты. Очень заняты. Даже слишком. Не потому что у них были суперэкзотические и важные дела, а скорее потому, что их заботила собственная жизнь, работа и, можно сказать, «шаблонное» исполнение роли родителей — типа «ну кормим, одели, погладили»... и всё.
Отец Светланы, как он иногда сам говорил с гордостью, «человек дела», трудился в своём логистическом центре, где вечные дедлайны и совещания сменяли друг друга со скоростью света. Он приходил домой уставший настолько, что иногда забывал, почему вообще сел за стол. Общение с дочерью зачастую сводилось к сухому «как дела?» и «завтра не забудь учебники взять».
Мама же была занята своей карьерой в розничной торговле — ей, кстати, часто приходилось менять смены и подстраиваться под график, который с каждым месяцем становился всё жёстче. После работы её ждало море дел по дому, готовка, уборка, и, конечно, бесконечные разговоры по телефону с подругами или такими же, как и она, бедолагами по работе, но уже не о Светлане...
Всё вместе это создавало атмосферу постоянной нехватки времени и сил на того самого «главного человека» — дочери. И дело совсем не в том, что родители не любили Светлану. Наоборот, любовь была, но... мягко скажем, она была довольно абстрактная и далёкая: «Мы тебя любим, наша девочка, но сейчас не до разговоров, у нас свои дела».
Светлана же жила словно в параллельном мире — мир, где родители скорее обитали рядом, но её почти не замечали. Она пыталась привлечь их внимание — приносила свои рисунки, рассказывала о школьных успехах и проблемах, но чаще всего получала в ответ улыбку через полувзгляд (да, и такое бывает), усталое «спасибо» или «потом, мне некогда» и совет «не заморачивайся», который словно говорили роботы-автоматы в режиме «домашний робот».
Подруги. Они были не настоящими подругами в полном смысле слова, а скорее… временными спутницами, которые больше думали о себе, чем о настоящей дружбе.
Каждый день она ходила по школьным коридорам, чувствуя себя невидимкой, чужой среди других, тех, которые громко смеялись, строили планы, жили так, как будто всё просто и понятно. А у неё — пустота и холод.
За последние месяцы Светлана постоянно ощущала, как её мир рушится. Долгие часы, проведенные за учебой, не приносили радости, а лишь усиливали давление.
Девочка сидела в классе, вокруг неё звучали смех и разговоры, но она ощущала себя как будто в параллельной реальности, где шум становился невыносимым гулом, а её собственные мысли заткнули все остальные звуки.
"Как будто никто не видит меня," — думала она, чувствуя, как одиночество окутывает её, как холодный туман. Каждый взгляд одноклассников казался ей осуждающим, как будто они могли прочесть её мысли. Ощущение изоляции угнетало, и ей казалось, что даже стены класса смеялись над её слабостью.
В мысли часто приходила тревога о том, что её ждёт впереди. "А что, если я провалюсь на экзаменах?" – думала она, представляя, как это разочарует её родителей. Эти страхи создавали катастрофические сценарии в её голове, заполняя её сознание опасениями о будущем, которое казалось мрачным и безнадёжным.
Уроки давно закончились, а она никак не могла себя заставить подняться в квартиру на втором этаже, сидя на самой дальней скамейке во дворе. Здесь всегда было более пустынно и тихо.
"Никто не может понять, как я себя чувствую," — думала Светлана, и это чувство безысходности нарастало.
"Наверное, если я просто исчезну, то всем станет легче." Эти мысли были как тёмная тень, которая шептала ей на ухо: "Ты никому не важна." Это внутреннее состояние было похоже на бурю, разрывающую её суть, оставляя только ужас и безысходность.
Сегодня в школе всё было как обычно: звонки, уроки, шум коридоров и привычный гул разговоров.
Марина Петровна в последний месяц заметила, что её ученица совсем не такая, как обычно. Светлана, которая обычно сидела за партой с улыбкой и пыталась угнаться за материалом, теперь казалась какой-то тихой и рассеянной. Её взгляд был словно затянут в туман, а на лице играла усталость и, как показалось, безысходность.
После уроков Марина Петровна аккуратно подошла к девочке.
— Светлана, у тебя всё в порядке? — тихо спросила она. — Может, дома что-то случилось? Последнее время ты совсем какая-то не такая.
— Да… просто немного устала, — ответила Светлана, стараясь улыбнуться, но улыбка получилась кривоватой.
— Хм, устала… Ты уверена? — Марина Петровна посмотрела ей в глаза и улыбнулась мягко. — Знаешь, иногда усталость — это не просто отсутствие сил. Может, хочется поговорить?
Светлана молчала несколько секунд. Затем вздохнула.
— Просто многое навалилось. Вроде домашки много, с родителями не всегда понятно… И с подругами всё как-то не так, — призналась девочка тихо.
— Понимаю, — кивнула учительница, — знаешь, ты сейчас никуда не торопишься?
— Нет. – безучастно ответила девочка.
— Вот и хорошо. Пойдём со мной.
Инга Анатольевна работала в школе второй год. Сначала хотела открыть свою практику, но это оказалось не так легко. Ей предложили вакансию в школе временно, пока не найдут замену. Это «временно» растянулось уже на второй год.
Да, многие сначала не восприняли её всерьёз. Молодая, без опыта. Многие думали, что помощь нужна только тем, кто находится на краю пропасти. А в школе что? Обычная рутина. Нет причин обращаться.
А подростки в старших классах? Для них разговор с психологом просто невозможен. Они опасались, что их тайны будут раскрыты, особенно если это касается личных переживаний.
И это не говоря о том, что прежний психолог, старая учительница, уже 15 лет работающая на пенсии, в принципе не понимала что же такое «психология». И это только укрепило негативные стереотипы среди учеников.
Инга же Анатольевна была очень наблюдательным человеком. Она словно детектив чувств: умела улавливать тени переживаний и тонко чувствовать настроение даже в самых, казалось бы, «закрытых» подростках. При этом всегда сохраняла доброжелательность и уважение — ни капли осуждения или спешки, только поддержка и открытое сердце.
Часто нужно было и разбавить сложные разговоры лёгкой шуткой, чтобы снять напряжение и помочь ученикам расслабиться.
И, конечно, в её работе необходимо было много терпения. Ведь разговаривать с подростками — всё равно что пытаться посчитать звёзды на ночном небе: иногда долго, иногда запутанно, но всегда стоит того, чтобы не сдаваться.
К ней и повела Светлану Марина Петровна, зная, что Инга Анатольевна ещё на месте.
Светлана сидела в кабинете школьного психолога. В комнате было уютно — мягкие кресла, разноцветные подушки и небольшой аквариум со спокойными рыбками.
— Здравствуй, Света! Мы просто поговорим, как подружки. Что тебя тревожит?
— Здравствуйте, — ответила Светлана немного робко. — Да ничего… Я не знаю, просто в последнее время чувствую себя очень усталой. Бывает, что ничего не хочется делать, а дома мама с папой постоянно заняты.
— Понимаю, — внимательно слушала психолог. — А ты можешь рассказывать, когда именно начинаешь чувствовать себя такой усталой?
— Обычно вечером, — задумалась Светлана. — Но всегда кажется, что я одна. Все как будто слишком заняты своими проблемами, а я… я просто теряюсь.
— Это нормально, — улыбнулась Инга Анатольевна. — Бывает, что кажется, будто все вокруг заняты, а ты одна. Но ты не одна, Светлана, я, например, всегда тут. И ты можешь прийти и поговорить.
Светлана опустила глаза, голос дрожал:
— Я хочу больше ничего не видеть, не чувствовать. Хочу уйти навсегда.
В кабинете повисла тишина. Инга не прерывала, не перебивала — просто дышала вместе с девочкой, показывая, что она рядом. Потом сказала:
— Спасибо, что поделилась этим со мной, это очень важно. Мне жаль, что тебе сейчас так тяжело и больно. Можешь сказать, что именно заставляет тебя так чувствовать?
Светлана вздохнула, сжав кулаки:
— Всё кажется бессмысленным. Никто меня не понимает, я одна.
В ответ психолог взглянула ей в глаза и сказала:
— Я вижу, что сейчас тебе очень одиноко и кажется, что рядом нет никого, кто бы тебя поддержал. Это действительно тяжело — чувствовать себя в одиночестве. Ты бы хотела, чтобы мы вместе нашли способы, чтобы снять это чувство одиночества и боль? Я хочу помочь тебе.
Светлана заерзала на месте, голос у неё подрагивал:
— Не знаю, поможет ли мне что-то.
— Ты так чувствуешь сейчас, и это нормально. — голос Инги звучал тепло. — Но иногда даже маленькие шаги могут принести облегчение, даже если в моменте кажется, что ничего не изменится. Давай мы вместе подумаем, что могло бы тебе немного помочь прямо сейчас? Может, кто-то из твоих близких, или что-то, что доставляло тебе радость раньше?
Светлана помолчала.
— Я не знаю, — ответила наконец.
— Я понимаю, что сейчас трудно даже представить что-то положительное. — улыбка психолога была мягкой и обнадеживающей. — Но ты очень важна, для других людей, о которых ты пока не думаешь. Давай попробуем найти хотя бы одну маленькую вещь, которая поможет тебе пережить этот момент?
Света молчала. Потом она сказала тихо:
— Раньше я любила рисовать... Но уже не могу даже кисти взять в руки. Всё кажется таким бессмысленным.
— Рисование — прекрасное занятие. А что ты рисовала?
— Людей, природу... Иногда просто то, что видела вокруг.
Инга Анатольевна кивнула.
— Может, мы попробуем вспомнить, как ты рисовала? Не обязательно сразу взять кисть просто расслабиться и вспомнить те моменты.
— Не уверенна...
— Попробуй! Покажешь мне завтра свои рисунки?
— Если вам будет интересно. – неуверенно произнесла Света.
— Приноси! Я тоже рисовала когда-то, я покажу свои. Заходи завтра после уроков.
После ухода Светланы Инга Анатольевна задумалась. Она понимала, что эта встреча была лишь первым шагом на пути к пониманию и поддержке девочки. В голове у неё крутились мысли о том, как ей важно было установить с девочкой доверительные отношения. Инга прекрасно осознавала, что Светлана находится в состоянии, когда она чувствует себя изолированной и непонятой, и что ей нужно время, чтобы открыть свои чувства и переживания.
Инга задумалась о том, как она может помочь Светлане раскрыть себя. Ей пришло в голову предложить разные творческие способы самовыражения — не только рисование, но и, возможно, творчество через слова, музыку или другие искусства. Она вспомнила о своих собственных увлечениях в детстве и как они помогали ей в трудные времена. Это вдохновение заметно подстегнуло её – она хотела, чтобы Светлана нашла свою страсть и представила себе мир без негативных мыслей.
Кроме того, Инга обдумывала, как построить следующую встречу так, чтобы Светлана могла чувствовать себя комфортно в разговоре. Важным моментом оставалось создание безопасного пространства, где девочка могла бы открыться без страха быть непонятый или осужденной.
На следующий день после уроков Светлана пришла к Инге Анатольевне снова. Девочка выглядела немного более уверенной, хотя её глаза всё равно выдавали усталость и неуверенность. Инга встретила её с доброй улыбкой и предложила сразу же начать с вопроса о рисунках.
— Привет, Света! Как ты сегодня? Принесла свои рисунки? — спросила Инга.
— Здравствуйте, Инга Анатольевна… Да, вот, — немного робко ответила Светлана, доставая из рюкзака папку с рисунками. Девочка сомневалась понравятся ли её работы учителю, ведь родители обычно лишь отмахивались от неё, но всё же решила поделиться своими творениями.
Инга внимательно изучила все рисунки, разложив из на столе и отмечая детали с запечатлёнными на них эмоциями. Каждый штрих и цвет показывал те чувства, которые Светлана старалась выразить, которые её волновали.
— Это очень красиво, — произнесла Инга, поднимая один из рисунков. — Твой стиль оригинален, и я могу увидеть, как ты передаёшь свои эмоции через эти работы.
Светлана облегченно вздохнула, видя на лице учителя одобрение.
— Эти вещи просто вырываются из меня… Иногда я не могу или не хочу ничего говорить словами, только рисовать, — призналась она, немного открываясь.
— Это замечательно! Искусство — это отличный способ выразить себя. Как ты себя чувствовала, когда рисовала эти картины? — спросила Инга.
Светлана немного задумалась.
— Когда я рисую, это как будто в голове всё расставляется по местам. Но потом, когда заканчиваю, я всё равно чувствую себя одинокой.
— Ты ведь говорила, что часто чувствуешь себя изолированной. Что бы ты изменила, чтобы почувствовать себя более понятый и менее одинокой? — продолжила Инга, направляя разговор.
— Не знаю… Может, если бы кто-то просто… выслушал меня, — тихо ответила Светлана, её голос дрожал.
— И ты можешь так сделать! Ты уже сделала шаг к этому, придя ко мне, — сказала Инга, показывая, как важно открыться и делиться своими чувствами.
И они ещё долго беседовали.
Инга продолжала поддерживать Светлану, спрашивая о её мечтах и планах, стараясь понять, что бы могло дать ей надежду и мотивацию.
Они обсуждали её страхи, ориентируясь на то, как важно осознавать их, и как их можно преодолеть.
Инга предложила ей подумать о возможных стратегиях, которые могли бы помочь девочке чувствовать себя лучше в школе и дома.
Так началась их работа. Медленно, осторожно, без давления.
В течение многих встреч Инга Анатольевна помогала Светлане постепенно возвращать к жизни то, что раньше радовало.
Инга показывала девочке свои рисунки, они вместе обсуждали каждую работу. Постепенно раскрепощаясь, Света открыла в себе талант к критическому мышлению и перспективному видению не только в живописи.
Вместе они учили, а потом активно использовали на практике дыхательные упражнения — глубокие вдохи и медленные выдохи — которые помогали ей снизить уровень тревоги. Инга Анатольевна предложила ей вести маленький дневник, где каждый день записывать хоть одно положительное событие. Даже если это была капля дождя, звучащая по крыше, или улыбка прохожего.
Некоторые встречи были трудны, Светлана вновь начинала говорить, что ничего не меняется, ничего не помогает. Но психолог терпеливо поддерживала:
— Иногда прогресс не виден сразу, но он есть. Ты сильнее, чем думаешь.
Постепенно девочка начала замечать, как меняется её отношение к жизни. Она снова стала пробовать рисовать — сначала несколько мазков краски на листе, потом небольшие эскизы. Это возвращало ей ощущение контроля и радости.
В школе тоже произошли изменения — Марина Петровна связалась с родителями Светланы и поговорила с ними. Когда мама с папой поняли, что чуть не потеряли дочь, пришли в ужас. В доме начались новые разговоры — чаще, искренне, с интересом делами дочери.
Постепенно встречи Инги Анатольевны и Светланы стали реже. У будущей выпускницы началась активная подготовка к ЕГЭ, расписание дня у девочки было буквально расписано по минутам, ведь она очень хотела поступить в художественную академию Строганова.
Однажды, на очередной встрече, Светлана призналась:
— Иногда я все ещё думаю о том, чтобы уйти... Но теперь, когда я вижу, что может быть лучше, я боюсь потерять то, что начало возвращаться.
Психолог взглянула на неё с теплом:
— Это очень честно и смело с твоей стороны признаться в этом. Почувствовать страх — нормально. Давай подумаем вместе, что ты можешь сделать, если эти мысли станут для тебя слишком навязчивыми. Важно иметь план безопасности.
Они вместе составили простой план — что делать, если опять появятся суицидальные мысли: кому звонить, куда писать, какие техники использовать. Ведь когда у человека есть схема действий, ему легче справиться с кризисом.
— Ты всегда можешь позвонить мне или сразу прийти сюда.
Прошел год. Инга Анатольевна только что закончила консультацию и собиралась домой. Телефонный звонок прозвучал, когда она уже закрывала дверь в кабинет.
— Инга Анатольевна, вы ещё не ушли? Вас спрашивают у входа. – звонили с поста охраны школы.
— Да, уже иду.
Инга заметила Свету сразу. Было заметно, что девочка стала более уверенной в себе и буквально светилась от счастья. Лицо Инги расцвело широкой улыбкой ещё издалека, как только заметила теперь уже бывшую ученицу.
— Света! — воскликнула она, радостно обняв девушку. В этот момент Инга почувствовала тепло её объятий, несущее с собой множество воспоминаний о трудных временах, которые теперь остались позади. Эмоции переполняли её: гордость за девушку, которая так сильно изменилась, и счастье от того, что она смогла быть её частью.
Светлана, почувствовав этот искренний прием, улыбнулась ещё шире, и в её глазах блеснули слёзы радости. Она до сих пор помнила моменты отчаяния, когда открывала свои чувства перед Ингой Анатольевной. Она и теперь ощущала поток вдохновения и поддержки, который всегда дарила ей эта женщина.
— Здравствуйте, Инга Анатольевна! — произнесла Светлана с ярким сиянием на лице, которое никак невозможно было скрыть, да и не хотелось. — Я так рада вас видеть!
И добавила:
— Знакомьтесь, это Тимур, мой парень. А это Инга Анатольевна, мой школьный психолог.
Инга внимательно присмотрелась к Тимуру и улыбнулась уже ему. Он производил хорошее впечатление. У него были короткие темные волосы, аккуратно причесанные, и открытое, приветливое лицо. Его карие глаза полны тепла и доброты, когда он смотрел на Свету, что сразу же расположило к себе Ингу. Он молод, около двадцати лет, но было сразу заметно, что на этого молодого человека можно положиться.
Довольная встречей троица вышла из школы. Было решено зайти в ближайшую кофейню.
Инга села за столик, и Светлана, заметив её восхищенный взгляд, почувствовала прилив уверенности. В её сердце разожглось тепло, когда они начали обсуждать новости в школе за прошедший год. А потом Инга внимательно слушала, её глаза наполнялись гордостью за каждое слово, которое Светлана произносила о своих новых достижениях.
А Света говорила о своих проектах и новых друзьях, Инга не могла удержаться от смеха и восторга. Она ощущала, как её собственное сердце наполняется радостью от того, что помогла Светлане обрести себя.
— Спасибо вам, Инга Анатольевна, — сказала Светлана, немного смущаясь. — за то, что вы были рядом, когда мне было трудно. Ваши советы и поддержка изменили мою жизнь.
Инга искренне улыбнулась, почувствовав гордость за Светлану.
— Мне было приятно работать с тобой, Света. Ты сама сделала этот шаг, открывшись и работая над собой. Я просто показывала тебе путь.
— Но без вас я бы не смогла! Вы дали мне надежду и уверенность. Я научилась выражать себя, и теперь я чувствую, что могу свободно создавать. — Светлана продолжала с энтузиазмом.
Разговор плавно перетекал от воспоминаний об их встречах к свежим рассказам о творческих успехах Светланы. Инга задавала вопросы, интересуясь новыми проектами. Тимур добавлял свои взгляды на творчество и поддерживал Светлану.
Когда встреча подходила к концу, девушка сделала Инге подарок — небольшой рисунок, который набросала в последний день учебы в школе. На рисунке был изображен яркий пейзаж с цветами и светом, а на фоне него внимательное и доброе лицо Инги.
— Это для вас. Вы - тот человек, который помог мне поверить в себя, — сказала Светлана, протягивая рисунок.
— Это невероятно красиво, Света. Я очень горжусь тобой. Будь уверена, ты всегда можешь на меня рассчитывать.
Светлана и Тимур вышли из кофейни. Инга смотрела им вслед с улыбкой, понимая, насколько важно её дело. Она чувствовала, что помощь другим приносит настоящую отдачу и счастье.
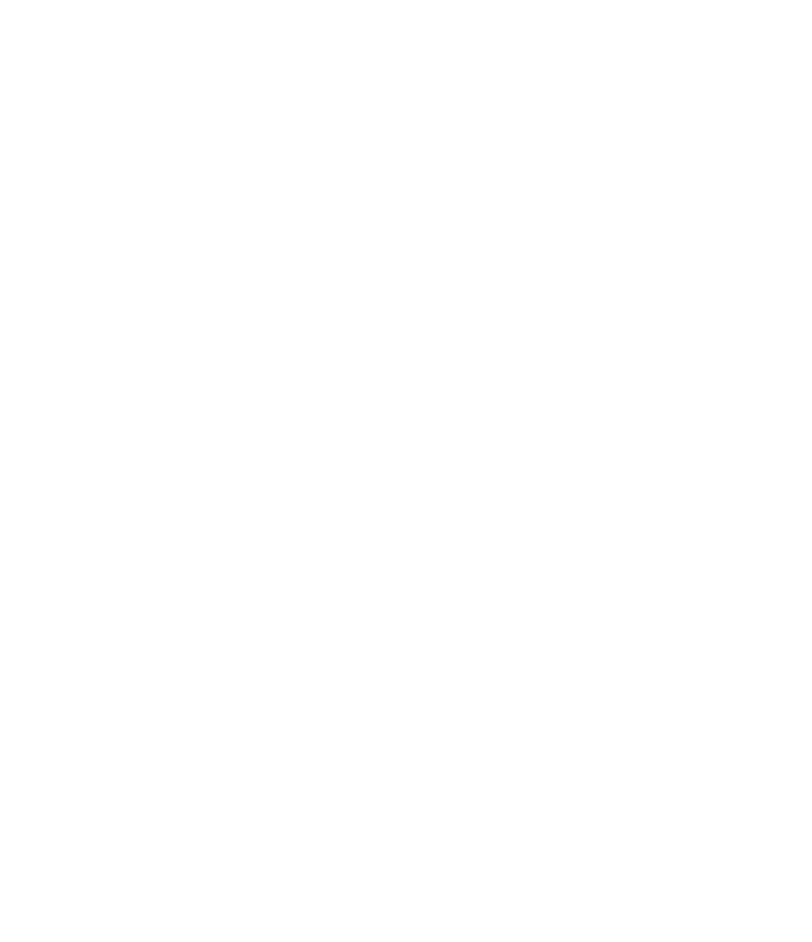
На грани
Аннотация
Мир экстренной медицины, где каждый миг на счету. Нестандартность и тяжёлые случаи здесь не редкость, а обыденность. Рассказ раскрывает не только профессиональные аспекты медицины, но и человеческие эмоции, надежду и мужество, которые помогают преодолевать самые тяжелые испытания.
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
В сутолоке белых халатов и быстро проносящихся мимо носилок коллег меня не отпускало чувство, что это дежурство не будет обычным. Вот уже третий год я, Маргарита Николаевна Романова или для друзей просто Рита, работаю в реанимационной бригаде, и ещё ни разу моя чуйка меня не подводила.
Днём все вызовы были обыденные, такие каждую смену по несколько раз бывают. К вечеру усталость начала накапливаться, никуда не денешься, организм не железный, и так весь день на ногах.
Ближе к ночи поступил вызов из стационара в области, где не было кардиологического отделения.
— Нет кардиологического отделения? Такое бывает? — обратилась я к фельдшеру Анатолию, когда мы сели в реанимобиль. — Как они справляются с тяжелыми случаями?
Анатолий только покачал головой. Его лицо выдавало усталость, но в глазах горел тот огонёк, который так отличает работников «скорой» от других коллег.
— Тактика «помочь как можно быстрее» — это все, что у них есть, — сказал он.
Водитель нажал на газ. — Надеюсь, не будет слишком поздно.
Доехали быстро и без пробок. В приемном отделении царила напряжённая атмосфера. Врачи и медсестры метались от смотровой к перевязочной, пытаясь справиться с наплывом пациентов. Но нас ждал особенный случай.
— Здесь! Сюда! — крикнула одна из медсестер, заметив нас.
Стараясь не терять ни секунды, я с Анатолием быстро направились туда. Больной лежал, сразу обращаю внимание на внешний вид, который, мягко говоря, не очень.
Мужчина, около 50 лет, бледное, чуть сероватое лицо, мимика слегка напряжена, выражен цианоз вокруг губ. На висках выступили капельки пота, хотя в палате комфортная температура. Дышит часто, поверхностно, ножная сторона кровати чуть приподнята. Лежит с закрытыми глазами.
Возникает вопрос: «А в сознании ли он?»
— Как он? — спросила я, на ходу готовя всё, что мне необходимо.
— Давление 70 на 40, пульс 100 в минуту, кардиогенный шок, — быстро отозвался дежурный врач местного приемного отделения. — Мы уже дважды пытались восстановить стабильную сердечную деятельность, но не получается. На ЭКГ классическая картина трансмурального инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка.
Я взглянула на ЭКГ и ощутила, как у меня перехватило дыхание. Это было действительно серьезно. Мы сейчас были как пожарные в горящем здании, где каждый момент на счету.
— Толя, набирай адреналин, — произнесла я. Адреналин был необходим, чтобы повысить артериальное давление, но все понимали, что это только временная мера. А Анатолий уже держал готовый шприц.
Время пролетало невероятно быстро. Мы работали слаженно, как хорошо отлаженный механизм: анализировали результаты, делали инъекции, контролировали изменения. Но положительной динамики не намечалось. Вместо этого у больного произошла остановка сердца.
В голове, как в компьютере – алгоритм действий, всё делаю максимально быстро и на автомате. Промешкаюсь – потеряю больного.
— Разряд!
Ритм не восстановился, продолжаю дальше. А в голове почему-то всплывает, как в школе по биологии говорили нам о функции сердца. Все эти факты теперь кажутся такими далекими. Сердце — это не просто орган, он — жизнь, бьющаяся с каждой крупицей нашего труда.
— Еще раз! Разряд! — крикнула я.
— Есть! — с облегчением в голосе произнес Анатолий, когда удалось восстановить сердечный ритм. Но я знала, что это было лишь временное облегчение.
В течение трех часов мы делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациента. Наконец, его давление немного поднялось до 95 на 80, а частота сердечных сокращений уменьшилась до 80. Ушёл цианоз, но я понимала — это еще далеко не конец.
— Мы его стабилизировали, — произнесла я, глядя на местного коллегу. — Но транспортировать нельзя. По приказу нельзя переводить больных с инфарктами из стационара в стационар.
— Я понимаю, — ответил он, потирая виски. — Но мы не можем оставить его. Вдруг опять остановка будет? Что делать?
Весь персонал был на высоте, но без реаниматолога и дефибриллятора они не могли гарантировать, что не потеряют пациента.
Я с Толей посмотрели друг на друга, мысленно взвесили все «за» и «против». Хотя, что тут взвешивать, если сейчас уедем, мужчина может не выжить.
— Мы должны транспортировать его в ближайший специализированный стационар. Машина полностью оснащена для реанимации, — произнесла я.
Анатолий посмотрел на меня.
— Это рискованно, конечно, но выбора у нас нет. Если оставим его здесь, он может умереть. Но тогда мы нарушаем приказ.
— Да.
И в этот момент я осознала: иногда нельзя исполнять приказы слепо. Я вспомнила о травмах и жертвах, которые мы спасали, о случае с ещё одним больным, который находился в похожей ситуации, но тогда он не дожил до стационара. Случилось это пару лет назад и не с нашей бригадой, но разбирали случай потом очень долго.
— Под мою ответственность! — уверенно сказала я, собрав все свое мужество.
— Хорошо! Едем! Я с тобой. Отвечать вместе будем. — Анатолий кивнул, и я ощутила, как вес ответственности на плечах чуть поубавился.
Начали готовиться к транспортировке. Я ощущала легкое дрожание в пальцах рук от всплеска адреналина и страха, но в этом было уже что-то почти привычное, что-то, что давало мне силу, зная, что этим я могу спасти жизнь.
— Держитесь, мы вас перевезем в специализированный стационар, — произнесла я больному, надеясь, что он меня слышит.
Мы быстро загрузили его в машину, и вдруг в тот самый момент, когда я собиралась закрыть дверь, он посмотрел на меня своими усталыми глазами.
— Спасибо вам, — прошептал он едва слышно.
Я почувствовала, как что-то щемит в груди. Это была не просто благодарность — это была надежда, поддержка, которая придавала сил и нам, и ему самому.
По дороге меня трясло от напряжения. Но ощущение, что мы делаем правильное дело, укрепляло.
Каждый раз, когда монитор издавал звук, сигнализирующий о том, что состояние больного ухудшается, сердце замирало — мы были на грани. Он был на грани.
Перекрестки, фонари, спешащие люди, светофоры, машины, наша сирена... Все это мелькало перед глазами, как в фильме.
Когда приехали, больного сразу начали подключать к аппаратам, я осталась на месте, пока его принимали дежурные врачи.
— Вы бледная. Вам плохо? — спросил один из них, высоко подняв руку в приветствии. Я только мотнула головой в отрицании и пошла к машине. До конца смены ещё несколько часов.
Ночь медленно уходила прочь, но в голове моих мыслей было так много. Мы сделали все возможное для этого пациента, теперь он получит надлежащее наблюдение, уход и лечение.
Спустя 2 недели я получила смс с неизвестного номера.
«Спасибо вам за ваше мужество и смелость. Мне рассказали, как вы рисковали. Вы стали для меня героем. Я выписался!»
Смс растрогала меня. Я сразу поняла от кого она пришла, поняла, что та ночь, та борьба не была напрасной. Иногда приходится принимать трудные решения. Чутье и здравый смысл у медика должен присутствовать всегда. Иногда можно нарушать приказы, когда на кону стоят жизни.
— Рита, поднимайся, у нас вызов, — раздался голос старшего фельдшера, и я улыбнулась, вздохнула. Надо идти, это моя работа.
Мир экстренной медицины, где каждый миг на счету. Нестандартность и тяжёлые случаи здесь не редкость, а обыденность. Рассказ раскрывает не только профессиональные аспекты медицины, но и человеческие эмоции, надежду и мужество, которые помогают преодолевать самые тяжелые испытания.
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
В сутолоке белых халатов и быстро проносящихся мимо носилок коллег меня не отпускало чувство, что это дежурство не будет обычным. Вот уже третий год я, Маргарита Николаевна Романова или для друзей просто Рита, работаю в реанимационной бригаде, и ещё ни разу моя чуйка меня не подводила.
Днём все вызовы были обыденные, такие каждую смену по несколько раз бывают. К вечеру усталость начала накапливаться, никуда не денешься, организм не железный, и так весь день на ногах.
Ближе к ночи поступил вызов из стационара в области, где не было кардиологического отделения.
— Нет кардиологического отделения? Такое бывает? — обратилась я к фельдшеру Анатолию, когда мы сели в реанимобиль. — Как они справляются с тяжелыми случаями?
Анатолий только покачал головой. Его лицо выдавало усталость, но в глазах горел тот огонёк, который так отличает работников «скорой» от других коллег.
— Тактика «помочь как можно быстрее» — это все, что у них есть, — сказал он.
Водитель нажал на газ. — Надеюсь, не будет слишком поздно.
Доехали быстро и без пробок. В приемном отделении царила напряжённая атмосфера. Врачи и медсестры метались от смотровой к перевязочной, пытаясь справиться с наплывом пациентов. Но нас ждал особенный случай.
— Здесь! Сюда! — крикнула одна из медсестер, заметив нас.
Стараясь не терять ни секунды, я с Анатолием быстро направились туда. Больной лежал, сразу обращаю внимание на внешний вид, который, мягко говоря, не очень.
Мужчина, около 50 лет, бледное, чуть сероватое лицо, мимика слегка напряжена, выражен цианоз вокруг губ. На висках выступили капельки пота, хотя в палате комфортная температура. Дышит часто, поверхностно, ножная сторона кровати чуть приподнята. Лежит с закрытыми глазами.
Возникает вопрос: «А в сознании ли он?»
— Как он? — спросила я, на ходу готовя всё, что мне необходимо.
— Давление 70 на 40, пульс 100 в минуту, кардиогенный шок, — быстро отозвался дежурный врач местного приемного отделения. — Мы уже дважды пытались восстановить стабильную сердечную деятельность, но не получается. На ЭКГ классическая картина трансмурального инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка.
Я взглянула на ЭКГ и ощутила, как у меня перехватило дыхание. Это было действительно серьезно. Мы сейчас были как пожарные в горящем здании, где каждый момент на счету.
— Толя, набирай адреналин, — произнесла я. Адреналин был необходим, чтобы повысить артериальное давление, но все понимали, что это только временная мера. А Анатолий уже держал готовый шприц.
Время пролетало невероятно быстро. Мы работали слаженно, как хорошо отлаженный механизм: анализировали результаты, делали инъекции, контролировали изменения. Но положительной динамики не намечалось. Вместо этого у больного произошла остановка сердца.
В голове, как в компьютере – алгоритм действий, всё делаю максимально быстро и на автомате. Промешкаюсь – потеряю больного.
- Располагаю руки на середине грудной клетки, накладываю одну руку на другую.
- Компрессии выполняю с частотой 100-120 в минуту, глубиной около 5-6 см.
- Обеспечиваю полное расслабление грудной клетки между компрессиями.
- После 30 компрессий выполняю 2 вдоха, наблюдая за подъемом грудной клетки.
— Разряд!
Ритм не восстановился, продолжаю дальше. А в голове почему-то всплывает, как в школе по биологии говорили нам о функции сердца. Все эти факты теперь кажутся такими далекими. Сердце — это не просто орган, он — жизнь, бьющаяся с каждой крупицей нашего труда.
— Еще раз! Разряд! — крикнула я.
— Есть! — с облегчением в голосе произнес Анатолий, когда удалось восстановить сердечный ритм. Но я знала, что это было лишь временное облегчение.
В течение трех часов мы делали все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациента. Наконец, его давление немного поднялось до 95 на 80, а частота сердечных сокращений уменьшилась до 80. Ушёл цианоз, но я понимала — это еще далеко не конец.
— Мы его стабилизировали, — произнесла я, глядя на местного коллегу. — Но транспортировать нельзя. По приказу нельзя переводить больных с инфарктами из стационара в стационар.
— Я понимаю, — ответил он, потирая виски. — Но мы не можем оставить его. Вдруг опять остановка будет? Что делать?
Весь персонал был на высоте, но без реаниматолога и дефибриллятора они не могли гарантировать, что не потеряют пациента.
Я с Толей посмотрели друг на друга, мысленно взвесили все «за» и «против». Хотя, что тут взвешивать, если сейчас уедем, мужчина может не выжить.
— Мы должны транспортировать его в ближайший специализированный стационар. Машина полностью оснащена для реанимации, — произнесла я.
Анатолий посмотрел на меня.
— Это рискованно, конечно, но выбора у нас нет. Если оставим его здесь, он может умереть. Но тогда мы нарушаем приказ.
— Да.
И в этот момент я осознала: иногда нельзя исполнять приказы слепо. Я вспомнила о травмах и жертвах, которые мы спасали, о случае с ещё одним больным, который находился в похожей ситуации, но тогда он не дожил до стационара. Случилось это пару лет назад и не с нашей бригадой, но разбирали случай потом очень долго.
— Под мою ответственность! — уверенно сказала я, собрав все свое мужество.
— Хорошо! Едем! Я с тобой. Отвечать вместе будем. — Анатолий кивнул, и я ощутила, как вес ответственности на плечах чуть поубавился.
Начали готовиться к транспортировке. Я ощущала легкое дрожание в пальцах рук от всплеска адреналина и страха, но в этом было уже что-то почти привычное, что-то, что давало мне силу, зная, что этим я могу спасти жизнь.
— Держитесь, мы вас перевезем в специализированный стационар, — произнесла я больному, надеясь, что он меня слышит.
Мы быстро загрузили его в машину, и вдруг в тот самый момент, когда я собиралась закрыть дверь, он посмотрел на меня своими усталыми глазами.
— Спасибо вам, — прошептал он едва слышно.
Я почувствовала, как что-то щемит в груди. Это была не просто благодарность — это была надежда, поддержка, которая придавала сил и нам, и ему самому.
По дороге меня трясло от напряжения. Но ощущение, что мы делаем правильное дело, укрепляло.
Каждый раз, когда монитор издавал звук, сигнализирующий о том, что состояние больного ухудшается, сердце замирало — мы были на грани. Он был на грани.
Перекрестки, фонари, спешащие люди, светофоры, машины, наша сирена... Все это мелькало перед глазами, как в фильме.
Когда приехали, больного сразу начали подключать к аппаратам, я осталась на месте, пока его принимали дежурные врачи.
— Вы бледная. Вам плохо? — спросил один из них, высоко подняв руку в приветствии. Я только мотнула головой в отрицании и пошла к машине. До конца смены ещё несколько часов.
Ночь медленно уходила прочь, но в голове моих мыслей было так много. Мы сделали все возможное для этого пациента, теперь он получит надлежащее наблюдение, уход и лечение.
Спустя 2 недели я получила смс с неизвестного номера.
«Спасибо вам за ваше мужество и смелость. Мне рассказали, как вы рисковали. Вы стали для меня героем. Я выписался!»
Смс растрогала меня. Я сразу поняла от кого она пришла, поняла, что та ночь, та борьба не была напрасной. Иногда приходится принимать трудные решения. Чутье и здравый смысл у медика должен присутствовать всегда. Иногда можно нарушать приказы, когда на кону стоят жизни.
— Рита, поднимайся, у нас вызов, — раздался голос старшего фельдшера, и я улыбнулась, вздохнула. Надо идти, это моя работа.
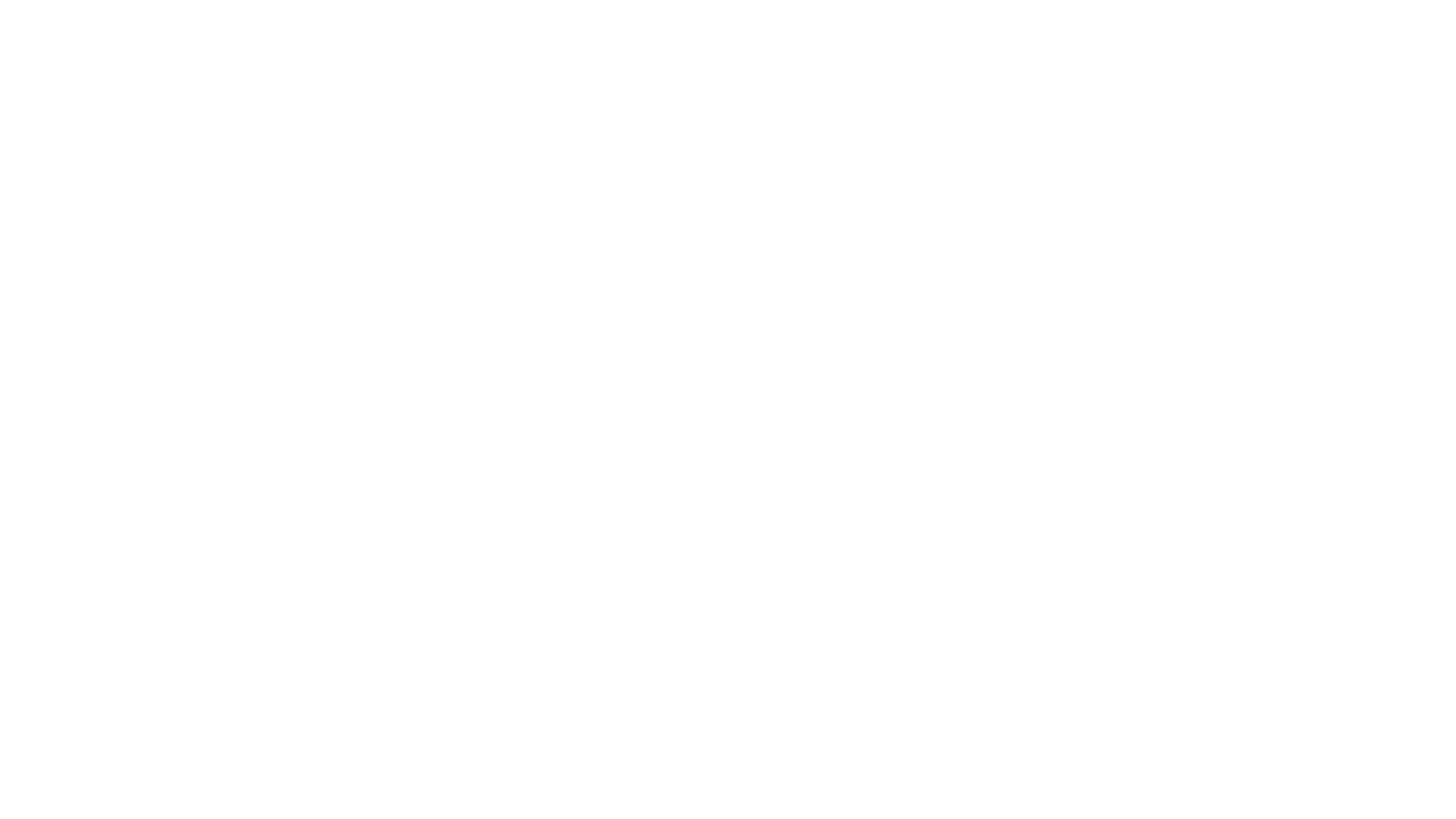
Синдром Сикстинской капеллы
Аннотация
Медицинский почти детектив по мотивам реального случая. Или автор просто соскучился по медицинской терминологии?
В любом случае, все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Аркадий Петрович вошел в кабинет неспешной, уверенной походкой человека, который если уж и смирился с необходимостью регулярно посещать врачей, то делает это с достоинством. Ему было за восемьдесят, но время, казалось, относилось к нему с уважением. Он не сгибался, не шаркал, а шел прямо, в глазах — живой, цепкий интерес. От него пахло дорогим одеколоном и кожей переплетов старых книг.
— Доктор, здравствуйте! — голос у него был низкий, бархатный, таким говорят дикторы на старых пластинках. — Не опоздал?
Иван Сергеевич, его врач, улыбнулся. Аркадий Петрович был его любимым типом пациентов — не стонущим и покорным, а любознательным союзником в борьбе с недугами. Болезней у него было, как говорится, с вагон и маленькую тележку: и ишемия, и брадиаритмия, и заслуженный спондилоартроз. Но внутри этого постаревшего тела жил неутомимый дух. Он водил машину, прочитывал по две серьезные книги в неделю и мог цитировать на память как Бродского, так и анекдоты из журнала «Крокодил» семидесятых годов прошлого столетия.
— Вы? Опоздать? — Иван Сергеевич махнул рукой. — Вы всегда точны, как швейцарские часы. Тем более с вашим встроенным хронометром. — Он кивнул на едва заметную выпуклость под рубашкой пациента. Кардиостимулятор, верный спутник Аркадия Петровича последних лет, позволивший ему забыть о головокружениях и слабости и жить полной жизнью.
— Ах, этот мой «тактовик»! — отозвался старик, устраиваясь в кресле. — Лучший мой компаньон после Шерлока Холмса. Но сегодня, Иван Сергеевич, я к вам не только за тем, чтобы продемонстрировать пульс в шестьдесят ударов. Сегодня я пришел показать вам Италию.
Он с торжествующим видом извлек из просторной сумки увесистый том в суперобложке. «Архитектурные шедевры Италии». Альбом был новым, пах типографской краской.
— Наконец-то! Поздравляю! — искренне обрадовался доктор. — Рассказывайте. От первого лица.
Лицо Аркадия Петровича озарилось внутренним светом. Он откинулся на спинку кресла, и его голос, всегда такой четкий, приобрел мечтательные, почти юношеские интонации.
— Это было нечто, доктор. Нечто! Рим… Вы представляете, пройтись по Форуму и ощутить, что под ногами не асфальт, а пласты истории. Тысячелетия! Я сидел в кафе на Пьяцца-Навона, пил эспрессо и думал: Бернини смотрит на меня с фонтана. Смешно, да? А Флоренция… Но главное, ради чего все затевалось… Ватикан. Сикстинская капелла.
Он замолчал, и его взгляд уперся в одну точку на стене, словно он видел сквозь нее нечто величественное и недоступное другим.
— Там ведь нельзя громко говорить. Толпа, шепот, шуршание шагов. И все смотрят вверх. А там… там оно. Творение гения. «Сотворение Адама». Руки, почти соприкасающиеся. Я стоял и не мог оторваться. Шея затекла, спина заныла, но я не мог уйти. Я вглядывался в каждую деталь, в каждый мазок, пытался понять, как это возможно — создать такое. И тогда…
Голос его дрогнул и стал тише.
— Тогда ноги стали ватными. Совершенно. Я перестал чувствовать пол. Звуки вокруг — шепот, возгласы экскурсоводов — слились в сплошной, нарастающий гул, как шум прибоя. Я видел потолок, эти краски, эти фигуры, но они поплыли, расплылись в глазах. Я не падал. Нет. Я просто… сполз. Медленно, как в замедленной съёмке, опустился на колени.
Иван Сергеевич, до этого расслабленно слушавший, выпрямился. Врачебный инстинкт зашевелился где-то глубоко.
— На вас обратили внимание?
— О, да! — Аркадий Петрович усмехнулся, но в усмешке была горькая нотка. — Какая-то добрая душа предположила, что я так молюсь. Благоговею. Синдром Стендаля, знаете ли. Эмоциональный перегруз от встречи с прекрасным. Меня подняли, усадили на скамью. Я пришел в себя довольно быстро, но слабость… эта мутная голова… они не проходили еще часа два. В автобусе я просидел, как мешок, ничего не видя и не слыша.
— Головокружение? Тошнота? Боль в груди? — быстро, по-врачебному, спросил Иван Сергеевич.
— Ни-че-го. Только эта страшная слабость и туман. Как будто меня на неделю выключили из розетки. Через два дня, во Флоренции, у галереи Уффици, все повторилось. Только на сей раз меня успели подхватить под руки. Сопровождающая даже ворчала: мол, нечего в вашем возрасте по Европам скакать. Я и сам уже так думал. Состарился, переоценил силы. Стресс, жара, эмоции… В общем, благополучно вернулся в Москву. И забыл. Списал на усталость и возраст.
Иван Сергеевич задумался. Картина была смазанной. Ортостатический коллапс? Преходящая ишемия мозга на фоне вертебробазилярной недостаточности? У Аркадия Петровича были и бляшки в сонных артериях, и спондилоартроз. Долго запрокинутая голова могла пережать позвоночные артерии, нарушив кровоснабжение мозга. Эмоциональное потрясение как триггер. Да, очень даже вероятно. «Синдром Сикстинской капеллы» — красивое, почти поэтичное объяснение.
— Понимаю, — кивнул он. — Стрессовая ситуация. Но сейчас-то как? Жалобы есть?
— Сейчас? Сейчас, казалось бы, все хорошо. Но, Иван Сергеевич, это была только увертюра. — Аркадий Петрович вдруг помрачнел. Его пальцы нервно потянулись к переносице, к едва заметному шрамику. — Главное действие началось здесь, дома. Месяца через два после моего возвращения.
Он снова замолчал, собираясь с мыслями. Воздух в кабинете стал густым и тяжелым.
— Я проснулся среди ночи. Захотелось пить. Встал с кровати, сделал шаг… И все. Провал. Полная тьма. Я не помню ни падения, ни удара. Очнулся на полу в прихожей. Лицо… лицо было все в чем-то липком и теплом. Кровище. Я пополз. Не знаю, сколько на это ушло времени — минута, час? Дополз до телефона, вызвал «скорую». Помню, диспетчерша все спрашивала: «Вы трезвы? Вы в сознании?» А я ей бубнил в трубку: «Кажется, да… Нет… Не знаю…», что-то ещё…
Его голос сорвался. Он отхлебнул воды из стакана, который молча протянул ему врач.
— Привезли в больницу. Неврологию. Диагноз — «ЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей лица». Гематома на пол-лица, нос разбит. Лежал, кажется, вечность. Капельницы, уколы. Голова гудела, как улей. Но самое главное… — он посмотрел на врача прямым, жестким взглядом, — меня никто не спросил про сердце. Никто не поинтересовался моим «тактовиком». Ни ЭКГ, ни холтера – ничего! Сказали: «Это у вас возрастное. Упал, ударился». Выписали. А через месяц… еще раз. Тот же сценарий. Только на сей раз я упал на кухне, среди бела дня. И очнулся быстрее. И смог не просто вызвать «скорую», а позвонить еще и соседке. И когда приехала бригада, я первым делом сказал им: «У меня кардиостимулятор. Проверьте его».
Иван Сергеевич замер. Все кусочки пазла, которые до этого лежали хаотично, с треском встали на свои места. Красивая версия про «синдром Стендаля» рассыпалась в прах. Два синкопе в Италии на фоне запрокидывания головы. Потом — два тяжелых, с травмами, обмороками в покое. И пульс.
— Аркадий Петрович, — тихо сказал он. — Позвольте.
Он встал, подошел к пациенту, приложил фонендоскоп к его груди. Ровный, ритмичный стук. Шестьдесят ударов. И… да. Вот оно. Едва уловимый, но совершенно отчетливый систолический шум на аорте, отдающий в сонные артерии. Старое, известное. Ничего нового. Ни отеков, ни одышки. Человек выглядел… почти здоровым. Но он был ходячей миной замедленного действия.
— Что в кардиологии? — спросил Иван Сергеевич, возвращаясь на свое место. Его мозг уже лихорадочно работал, выстраивая логическую цепь.
— А в кардиологии оказалось, что мой верный «тактовик» меня предал, — с горькой иронией произнес Аркадий Петрович. — DDD, самый современный на тот момент. Должен был работать безупречно. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Один из электродов… надломился. Не полностью, нет. Он еще как-то держался, контакт то появлялся, то пропадал. В Италии, когда я задирал голову, электрод, видимо, чуть смещался, терял контакт. Сердце сбивалось с ритма, мозг недополучал крови — и я падал. Потом он возвращался на место, и я приходил в себя. А потом надлом стал больше. Контакт пропадал уже просто так, без всяких потолков Микеланджело.
Иван Сергеевич представил это. Медленное, коварное предательство внутри твоей же грудной клетки. Прибор, призванный оберегать жизнь, стал ее главной угрозой. Классический «пейсмейкерный синдром», который обычно грозил пациентам с устаревшими однокамерными моделями. Но техника неидеальна. И человеческий фактор, и брак, и просто случайность — электрод мог надломиться от микроскопической трещины, от любого неловкого движения.
— Его… извлекли? — спросил врач.
— Нет, — покачал головой Аркадий Петрович. — Он оброс тканью, прикипел. Решили не рисковать. Просто отключили и оставили в покое. Поставили новый, с новыми электродами, с другой стороны. — Он похлопал себя по груди. — Вот этот парень теперь за все отвечает. Двадцать пять дней уже на посту. Работает без сбоев.
В кабинете воцарилась тишина. Иван Сергеевич смотрел на своего пациента — элегантного, собранного, живого. Он думал о том, как тонка грань. Два раза его спасла случайность — в Ватикане его приняли за экзальтированного старика, а не за умирающего, а потом успели подхватить во Флоренции. Следующие два раза его спас он сам — сумел доползти до телефона и, главное, догадаться настоять на проверке сердца. Ирония судьбы: его страсть к знаниям, к анализу, заставившая его годами учить итальянский и штудировать путеводители, в итоге спасла ему жизнь. Он не просто запаниковал, он проанализировал ситуацию. Тогда, когда другие впадали в панику.
— Вам невероятно повезло, Аркадий Петрович, — наконец выдохнул Иван Сергеевич. — Это могло закончиться… куда печальнее.
— Знаю, — просто сказал старик. — Поэтому теперь я каждое утро, просыпаясь, говорю «спасибо». И ему, — он снова похлопал по груди, — и тем ребятам из кардиоцентра, и тому итальянскому гению, который показал мне первые «звоночки» на своём гениальном потолке. Это был самый дорогой сеанс диагностики в моей жизни. - пошутил Аркадий Петрович.
Он снова открыл альбом на закладке.
— Вот, смотрите, Иван Сергеевич. Сикстинская капелла. Я теперь смотрю на эти фотографии с двойным чувством. Здесь и красота, что дух захватывает. И память о том, как я чуть не остался там навсегда. Но теперь-то все хорошо.
Он говорил это с такой простой, безоговорочной верой в будущее, что Иван Сергеевич невольно улыбнулся. Он провел очередной осмотр, выслушал сердце — ровное, уверенное, без сбоев.
— Все отлично, — заключил он. — Новый «компаньон» работает безупречно. Чувствуете себя свежим жаворонком?
— Ну, какой из меня в мои-то годы жаворонок? — рассмеялся Аркадий Петрович, застегивая рубашку. — Старый ворон, которого пока что обходит стороной гроза. Но летать еще могу. И планирую. Как думаете, доктор, мне теперь в Лувр можно? Или тоже опасно? Там, кажется, потолки попроще.- усмехнулся он.
— Думаю, вам теперь все можно, — улыбнулся Иван Сергеевич. — Только без фанатизма. Смотрите на шедевры, не запрокидывая голову. Лучше купите бинокль.
— Дельная мысль! — оживился старик. — Обязательно. До новых встреч, доктор. Спасибо за то, что уделили время.
Он ушел, оставив в кабинете легкий шлейф одеколона и ощущение тихого, светлого чуда. Иван Сергеевич еще несколько минут сидел за столом, глядя в окно. Он думал о том, как часто медицина похожа на детектив. Пациент приносит тебе обрывки улик — жалобы, свои случаи из жизни, потом ты осматриваешь его, ища дополнительные улики-признаки, симптомы. Затем, как Шерлок Холмс, должен отбросить все ложные, хоть и красивые версии — вроде «синдрома Стендаля» или, как в данном случае, «синдрома Сикстинской капеллы» — и докопаться до истины, спрятанной глубоко внутри. Истины, которая тихо постукивает в грудной клетке, предупреждая о беде. И как хорошо, когда в этом детективе находится место не только для точной диагностики, но и для счастливого конца.
Он вздохнул, открыл компьютер и внес в электронную карту Аркадия Петровича запись:
«Состояние удовлетворительное. Жалоб нет. ЭКС функционирует нормально. Рекомендовано наблюдение».
И мысленно добавил:
«Пациенту чрезвычайно повезло. Выписать рецепт на бинокль для посещения музеев».
Медицинский почти детектив по мотивам реального случая. Или автор просто соскучился по медицинской терминологии?
В любом случае, все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Аркадий Петрович вошел в кабинет неспешной, уверенной походкой человека, который если уж и смирился с необходимостью регулярно посещать врачей, то делает это с достоинством. Ему было за восемьдесят, но время, казалось, относилось к нему с уважением. Он не сгибался, не шаркал, а шел прямо, в глазах — живой, цепкий интерес. От него пахло дорогим одеколоном и кожей переплетов старых книг.
— Доктор, здравствуйте! — голос у него был низкий, бархатный, таким говорят дикторы на старых пластинках. — Не опоздал?
Иван Сергеевич, его врач, улыбнулся. Аркадий Петрович был его любимым типом пациентов — не стонущим и покорным, а любознательным союзником в борьбе с недугами. Болезней у него было, как говорится, с вагон и маленькую тележку: и ишемия, и брадиаритмия, и заслуженный спондилоартроз. Но внутри этого постаревшего тела жил неутомимый дух. Он водил машину, прочитывал по две серьезные книги в неделю и мог цитировать на память как Бродского, так и анекдоты из журнала «Крокодил» семидесятых годов прошлого столетия.
— Вы? Опоздать? — Иван Сергеевич махнул рукой. — Вы всегда точны, как швейцарские часы. Тем более с вашим встроенным хронометром. — Он кивнул на едва заметную выпуклость под рубашкой пациента. Кардиостимулятор, верный спутник Аркадия Петровича последних лет, позволивший ему забыть о головокружениях и слабости и жить полной жизнью.
— Ах, этот мой «тактовик»! — отозвался старик, устраиваясь в кресле. — Лучший мой компаньон после Шерлока Холмса. Но сегодня, Иван Сергеевич, я к вам не только за тем, чтобы продемонстрировать пульс в шестьдесят ударов. Сегодня я пришел показать вам Италию.
Он с торжествующим видом извлек из просторной сумки увесистый том в суперобложке. «Архитектурные шедевры Италии». Альбом был новым, пах типографской краской.
— Наконец-то! Поздравляю! — искренне обрадовался доктор. — Рассказывайте. От первого лица.
Лицо Аркадия Петровича озарилось внутренним светом. Он откинулся на спинку кресла, и его голос, всегда такой четкий, приобрел мечтательные, почти юношеские интонации.
— Это было нечто, доктор. Нечто! Рим… Вы представляете, пройтись по Форуму и ощутить, что под ногами не асфальт, а пласты истории. Тысячелетия! Я сидел в кафе на Пьяцца-Навона, пил эспрессо и думал: Бернини смотрит на меня с фонтана. Смешно, да? А Флоренция… Но главное, ради чего все затевалось… Ватикан. Сикстинская капелла.
Он замолчал, и его взгляд уперся в одну точку на стене, словно он видел сквозь нее нечто величественное и недоступное другим.
— Там ведь нельзя громко говорить. Толпа, шепот, шуршание шагов. И все смотрят вверх. А там… там оно. Творение гения. «Сотворение Адама». Руки, почти соприкасающиеся. Я стоял и не мог оторваться. Шея затекла, спина заныла, но я не мог уйти. Я вглядывался в каждую деталь, в каждый мазок, пытался понять, как это возможно — создать такое. И тогда…
Голос его дрогнул и стал тише.
— Тогда ноги стали ватными. Совершенно. Я перестал чувствовать пол. Звуки вокруг — шепот, возгласы экскурсоводов — слились в сплошной, нарастающий гул, как шум прибоя. Я видел потолок, эти краски, эти фигуры, но они поплыли, расплылись в глазах. Я не падал. Нет. Я просто… сполз. Медленно, как в замедленной съёмке, опустился на колени.
Иван Сергеевич, до этого расслабленно слушавший, выпрямился. Врачебный инстинкт зашевелился где-то глубоко.
— На вас обратили внимание?
— О, да! — Аркадий Петрович усмехнулся, но в усмешке была горькая нотка. — Какая-то добрая душа предположила, что я так молюсь. Благоговею. Синдром Стендаля, знаете ли. Эмоциональный перегруз от встречи с прекрасным. Меня подняли, усадили на скамью. Я пришел в себя довольно быстро, но слабость… эта мутная голова… они не проходили еще часа два. В автобусе я просидел, как мешок, ничего не видя и не слыша.
— Головокружение? Тошнота? Боль в груди? — быстро, по-врачебному, спросил Иван Сергеевич.
— Ни-че-го. Только эта страшная слабость и туман. Как будто меня на неделю выключили из розетки. Через два дня, во Флоренции, у галереи Уффици, все повторилось. Только на сей раз меня успели подхватить под руки. Сопровождающая даже ворчала: мол, нечего в вашем возрасте по Европам скакать. Я и сам уже так думал. Состарился, переоценил силы. Стресс, жара, эмоции… В общем, благополучно вернулся в Москву. И забыл. Списал на усталость и возраст.
Иван Сергеевич задумался. Картина была смазанной. Ортостатический коллапс? Преходящая ишемия мозга на фоне вертебробазилярной недостаточности? У Аркадия Петровича были и бляшки в сонных артериях, и спондилоартроз. Долго запрокинутая голова могла пережать позвоночные артерии, нарушив кровоснабжение мозга. Эмоциональное потрясение как триггер. Да, очень даже вероятно. «Синдром Сикстинской капеллы» — красивое, почти поэтичное объяснение.
— Понимаю, — кивнул он. — Стрессовая ситуация. Но сейчас-то как? Жалобы есть?
— Сейчас? Сейчас, казалось бы, все хорошо. Но, Иван Сергеевич, это была только увертюра. — Аркадий Петрович вдруг помрачнел. Его пальцы нервно потянулись к переносице, к едва заметному шрамику. — Главное действие началось здесь, дома. Месяца через два после моего возвращения.
Он снова замолчал, собираясь с мыслями. Воздух в кабинете стал густым и тяжелым.
— Я проснулся среди ночи. Захотелось пить. Встал с кровати, сделал шаг… И все. Провал. Полная тьма. Я не помню ни падения, ни удара. Очнулся на полу в прихожей. Лицо… лицо было все в чем-то липком и теплом. Кровище. Я пополз. Не знаю, сколько на это ушло времени — минута, час? Дополз до телефона, вызвал «скорую». Помню, диспетчерша все спрашивала: «Вы трезвы? Вы в сознании?» А я ей бубнил в трубку: «Кажется, да… Нет… Не знаю…», что-то ещё…
Его голос сорвался. Он отхлебнул воды из стакана, который молча протянул ему врач.
— Привезли в больницу. Неврологию. Диагноз — «ЧМТ. Сотрясение головного мозга. Ушиб мягких тканей лица». Гематома на пол-лица, нос разбит. Лежал, кажется, вечность. Капельницы, уколы. Голова гудела, как улей. Но самое главное… — он посмотрел на врача прямым, жестким взглядом, — меня никто не спросил про сердце. Никто не поинтересовался моим «тактовиком». Ни ЭКГ, ни холтера – ничего! Сказали: «Это у вас возрастное. Упал, ударился». Выписали. А через месяц… еще раз. Тот же сценарий. Только на сей раз я упал на кухне, среди бела дня. И очнулся быстрее. И смог не просто вызвать «скорую», а позвонить еще и соседке. И когда приехала бригада, я первым делом сказал им: «У меня кардиостимулятор. Проверьте его».
Иван Сергеевич замер. Все кусочки пазла, которые до этого лежали хаотично, с треском встали на свои места. Красивая версия про «синдром Стендаля» рассыпалась в прах. Два синкопе в Италии на фоне запрокидывания головы. Потом — два тяжелых, с травмами, обмороками в покое. И пульс.
— Аркадий Петрович, — тихо сказал он. — Позвольте.
Он встал, подошел к пациенту, приложил фонендоскоп к его груди. Ровный, ритмичный стук. Шестьдесят ударов. И… да. Вот оно. Едва уловимый, но совершенно отчетливый систолический шум на аорте, отдающий в сонные артерии. Старое, известное. Ничего нового. Ни отеков, ни одышки. Человек выглядел… почти здоровым. Но он был ходячей миной замедленного действия.
— Что в кардиологии? — спросил Иван Сергеевич, возвращаясь на свое место. Его мозг уже лихорадочно работал, выстраивая логическую цепь.
— А в кардиологии оказалось, что мой верный «тактовик» меня предал, — с горькой иронией произнес Аркадий Петрович. — DDD, самый современный на тот момент. Должен был работать безупречно. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Один из электродов… надломился. Не полностью, нет. Он еще как-то держался, контакт то появлялся, то пропадал. В Италии, когда я задирал голову, электрод, видимо, чуть смещался, терял контакт. Сердце сбивалось с ритма, мозг недополучал крови — и я падал. Потом он возвращался на место, и я приходил в себя. А потом надлом стал больше. Контакт пропадал уже просто так, без всяких потолков Микеланджело.
Иван Сергеевич представил это. Медленное, коварное предательство внутри твоей же грудной клетки. Прибор, призванный оберегать жизнь, стал ее главной угрозой. Классический «пейсмейкерный синдром», который обычно грозил пациентам с устаревшими однокамерными моделями. Но техника неидеальна. И человеческий фактор, и брак, и просто случайность — электрод мог надломиться от микроскопической трещины, от любого неловкого движения.
— Его… извлекли? — спросил врач.
— Нет, — покачал головой Аркадий Петрович. — Он оброс тканью, прикипел. Решили не рисковать. Просто отключили и оставили в покое. Поставили новый, с новыми электродами, с другой стороны. — Он похлопал себя по груди. — Вот этот парень теперь за все отвечает. Двадцать пять дней уже на посту. Работает без сбоев.
В кабинете воцарилась тишина. Иван Сергеевич смотрел на своего пациента — элегантного, собранного, живого. Он думал о том, как тонка грань. Два раза его спасла случайность — в Ватикане его приняли за экзальтированного старика, а не за умирающего, а потом успели подхватить во Флоренции. Следующие два раза его спас он сам — сумел доползти до телефона и, главное, догадаться настоять на проверке сердца. Ирония судьбы: его страсть к знаниям, к анализу, заставившая его годами учить итальянский и штудировать путеводители, в итоге спасла ему жизнь. Он не просто запаниковал, он проанализировал ситуацию. Тогда, когда другие впадали в панику.
— Вам невероятно повезло, Аркадий Петрович, — наконец выдохнул Иван Сергеевич. — Это могло закончиться… куда печальнее.
— Знаю, — просто сказал старик. — Поэтому теперь я каждое утро, просыпаясь, говорю «спасибо». И ему, — он снова похлопал по груди, — и тем ребятам из кардиоцентра, и тому итальянскому гению, который показал мне первые «звоночки» на своём гениальном потолке. Это был самый дорогой сеанс диагностики в моей жизни. - пошутил Аркадий Петрович.
Он снова открыл альбом на закладке.
— Вот, смотрите, Иван Сергеевич. Сикстинская капелла. Я теперь смотрю на эти фотографии с двойным чувством. Здесь и красота, что дух захватывает. И память о том, как я чуть не остался там навсегда. Но теперь-то все хорошо.
Он говорил это с такой простой, безоговорочной верой в будущее, что Иван Сергеевич невольно улыбнулся. Он провел очередной осмотр, выслушал сердце — ровное, уверенное, без сбоев.
— Все отлично, — заключил он. — Новый «компаньон» работает безупречно. Чувствуете себя свежим жаворонком?
— Ну, какой из меня в мои-то годы жаворонок? — рассмеялся Аркадий Петрович, застегивая рубашку. — Старый ворон, которого пока что обходит стороной гроза. Но летать еще могу. И планирую. Как думаете, доктор, мне теперь в Лувр можно? Или тоже опасно? Там, кажется, потолки попроще.- усмехнулся он.
— Думаю, вам теперь все можно, — улыбнулся Иван Сергеевич. — Только без фанатизма. Смотрите на шедевры, не запрокидывая голову. Лучше купите бинокль.
— Дельная мысль! — оживился старик. — Обязательно. До новых встреч, доктор. Спасибо за то, что уделили время.
Он ушел, оставив в кабинете легкий шлейф одеколона и ощущение тихого, светлого чуда. Иван Сергеевич еще несколько минут сидел за столом, глядя в окно. Он думал о том, как часто медицина похожа на детектив. Пациент приносит тебе обрывки улик — жалобы, свои случаи из жизни, потом ты осматриваешь его, ища дополнительные улики-признаки, симптомы. Затем, как Шерлок Холмс, должен отбросить все ложные, хоть и красивые версии — вроде «синдрома Стендаля» или, как в данном случае, «синдрома Сикстинской капеллы» — и докопаться до истины, спрятанной глубоко внутри. Истины, которая тихо постукивает в грудной клетке, предупреждая о беде. И как хорошо, когда в этом детективе находится место не только для точной диагностики, но и для счастливого конца.
Он вздохнул, открыл компьютер и внес в электронную карту Аркадия Петровича запись:
«Состояние удовлетворительное. Жалоб нет. ЭКС функционирует нормально. Рекомендовано наблюдение».
И мысленно добавил:
«Пациенту чрезвычайно повезло. Выписать рецепт на бинокль для посещения музеев».
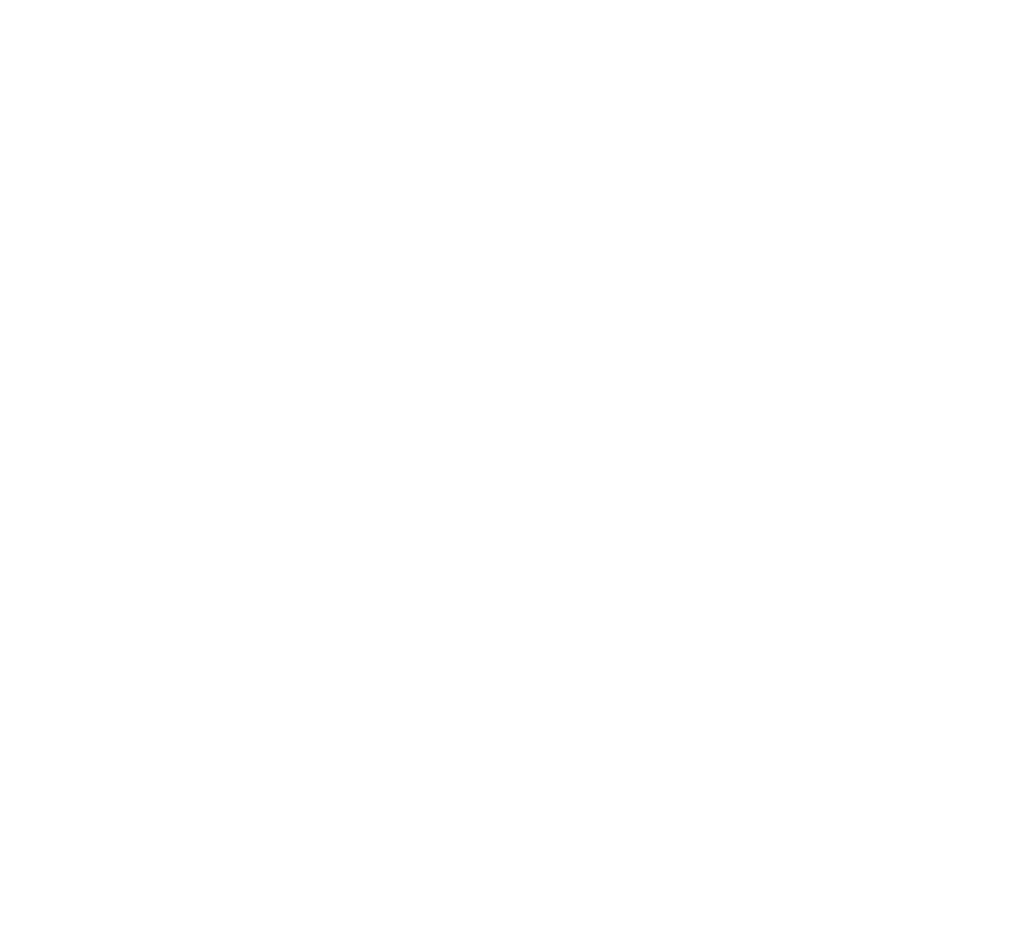
Две жизни
Аннотация
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Вспоминая всё с самого начала, мне трудно подобрать слова, чтобы описать то, что случилось в той маленькой палате, где я проводила последние дни своей жизни. Но я попробую — ради той девочки, ради того света, который она мне подарила, когда казалось, что вокруг только тьма.
Хоспис. Это место было словно маленький остров в океане боли и отчаяния — тихое, почти незаметное, спрятанное среди высоких деревьев и цветущих кустов улицы. Здесь не было запаха обычных больничных коридоров, только тонкий аромат лаванды и свежих цветов, которые ставили медсестры в небольших вазах на подоконниках.
Меня зовут Ольга. Мне сорок пять лет, и я больна. Рак лёгких с метастазами в кости — диагноз, который звучит как приговор, особенно когда ты одна, никому не нужна. Никого нет рядом — ни мужа, ни родителей, ни детей. Я потеряла всё, что когда-то имела, и, казалось, потеряла и себя. Моя жизнь — это тяжёлая цепь горечи и боли, обиды и одиночества.
Я находилась здесь уже несколько дней, когда в палату, где я лежала, вечером привезли маленькую девочку — Соню. Ей было четыре года, и у неё была запущенная стадия рака мозга. Она была сиротой, её привезли из детдома, где уже не могли выносить её мучительные стоны, крики боли и приступы. Услышала в тот же день в коридоре, как врачи говорили, что ей осталось жить не больше недели.
Сначала я сразу возненавидела её. Стоны, плач — всё это резало меня, как нож.
Почему именно я должна терпеть это?
Почему именно я оказалась в одной комнате с этим маленьким существом, которое всё время зовёт маму?
У меня самой не было мамы, не было семьи, не было надежды. Я была разбита, и эта девочка казалась мне напоминанием о том, чего у меня никогда уже и не будет.
Каждый день её крики становились всё невыносимее. Я пыталась закрывать глаза, затыкать уши, но боль и отчаяние в её голосе проникали глубоко в меня. Иногда я думала, что лучше бы она умерла, чтобы прекратился этот бесконечный ад. И даже решилась — ночью, когда всё стихло, подошла к её кроватке, чтобы отключить аппарат, который поддерживал её жизнь.
Но в тот момент, когда я наклонилась, Соня открыла глаза и тихо сказала:
— Мама, ты пришла...
Я застыла, не в силах двинуться.
В палате хосписа, где царила тишина, нарушаемая лишь тихими вздохами и редкими звуками аппаратов, взгляд маленькой девочки Сони встретился с усталым, но внимательным взглядом взрослого, тоже умирающей женщины, стоявшей около неё рядом.
— Мама?.. — прошептала Соня, голос её был слабым, едва слышным, но в нём звучала надежда.
Я вздрогнула, словно ударившись о невидимую стену. Моё сердце забилось чаще, а в горле пересохло.
— Я… Я не твоя мама, — ответила я, голос дрожал, как будто от страха.
— Но ты здесь, — сказала Соня, улыбаясь слабо, — ты пришла ко мне. Значит, ты моя мама.
Я опустила взгляд на маленькую руку, которую Соня протянула ко мне.
— Я не знаю, как быть мамой, — призналась ей тихо.
— Побудь со мной, — попросила девочка, — …просто побудь рядом. Я боюсь одна.
Помолчав, Соня добавила:
— Мама…
И тут я почувствовала, как что-то тёплое растекается по моей груди, разжигая забытое чувство, когда хотелось семьи, своей, родной кровиночки.
— Хорошо, — прошептала я, осторожно взяв Сонину руку в свою, — я буду с тобой.
Девочка обняла меня, и в её объятиях я впервые за долгое время почувствовала тепло — материнскую любовь, которую никогда ни к кому не испытывала, а очень хотела. Мои руки дрожали, но я не могла оттолкнуть её. Силы меня просто покинули.
В ту ночь мы спали рядом, и я впервые позволила себе плакать — тихо, чтобы не разбудить Соню. Она не стонала, не плакала, она просто была рядом и спала так, как спит здоровый ребёнок. Это было чудом.
Помню следующее утро. В нашей палате, где утренний свет пробивался сквозь занавески, окрашивая стены в мягкий золотистый оттенок, я проснулась первой и лежала тихо, чтобы не разбудить девочку.
Когда Соня проснулась, её большие глаза, полные детской невинности и скрытой боли, уставились на меня, пытаясь справиться с волной эмоций, нахлынувшей после этой ночи.
— Мама, — прошептала Соня, её голос был тонким, как нить паутины, но в нём звучала неподдельная радость, — ты где так долго была? Я так долго тебя ждала!
После таких слов я вздрогнула, словно от неожиданности. Соня смотрела на меня такими большими и верящими глазами, что я не смогла ей прямо сейчас сказать, что мы просто вместе лежим в больнице.
— Я… я только вчера вернулась из командировки, — сказала я тихо девочке, стараясь улыбнуться, хотя голос у меня дрожал. — Спешила к тебе, солнышко. Обними меня, пожалуйста.
Соня улыбнулась и протянула худенькие руки. Я осторожно обняла её, чувствуя, как маленькое тело прижимается ко мне с доверием, которого я совсем не ожидала.
— Ты спала хорошо? — спросила я, гладя девочку по волосам.
— Да, — ответила Соня, — я даже видела сны. Мне снились драконы, которых я победила.
— Драконы? — удивилась я тогда. — Какие они были?
— Большие и страшные, — сказала Соня, — но я была храброй. Я взяла меч и прогнала их далеко-далеко.
И она даже показала, как именно она прогоняла драконов. И я улыбнулась, впервые за долгое время почувствовав лёгкость.
После нашего завтрака я всё-таки решилась сказать девочке, что не являюсь её мамой.
— Ты настоящая героиня, Соня, — сказала ей тихо. — А я… я не знаю, как быть мамой…
У меня сорвался голос от волнения, не зная, как признаться, что обманула её ожидания.
— Я знаю, что ненастоящая мама… Ты хорошая, ты мне понравилась. Побудь моей мамой! — уверенно сказала девочка. — Просто надо попробовать. Ты сможешь.
Я взглянула на неё с нежностью, из глаз полились слёзы.
— А ты хочешь, чтобы я была твоей мамой? — спросила её.
— Очень хочу, — ответила Соня и крепче сжала мою руку. — Мне так одиноко.
Глаза полностью наполнились слезами. Я прижала Соню к себе и прошептала:
— Тогда я буду с тобой. Всегда.
Соня улыбнулась — улыбкой, которая осветила всю палату, как первый луч солнца после долгой бури. Она протянула ко мне свои худенькие ручки, и я обняла её, чувствуя, как маленькое тельце прижимается ко мне с доверием и любовью.
В этот миг, в нашей с Соней палате хосписа, я поняла: теперь я стала мамой. Не по крови, не по судьбе, но по сердцу — и это было самое настоящее чудо.
А дни шли дальше.
Болезнь не отступила, нет. Приступы не прекратились, но между нами выросла связь сильнее боли и страха перед страшной болезнью.
Теперь Сонечке почти каждый день снились сны. Она рассказывала мне о них, о драконах, которых она побеждала, и я слушала, забывая о своей собственной боли.
Когда её приступы становились невыносимыми, я брала её за руку и говорила:
— Давай приляжем вместе, отдохнём.
Она улыбалась, сжимая зубы, чтобы не издать ни звука, и засыпала, держа меня за руку и глядя в мои глаза.
В другой раз Соня спросила:
— Расскажи мне про тебя, мама. Какая ты была, когда была маленькой?
Я задумалась.
— Я была одинокой девочкой, — начинала рассказывать я тихо. — У меня не было мамы и папы, и я часто боялась. Почти всего. Но я мечтала о семье.
— А теперь у тебя есть я, — улыбнулась Соня. — Мы семья.
— Да, — согласилась я с ней, обнимая худенькое тельце. — И это самое главное чудо в моей жизни.
Время шло. Каждый наш разговор становился всё глубже, всё теплее. Однажды вечером, когда палата уже погрузилась в полумрак, Соня тихо спросила:
— Мама, а почему ты такая грустная?
Я вздохнула, не зная, с чего начать.
— Потому что у меня много боли, — призналась. — И я боюсь, что скоро меня не станет.
Соня посмотрела на меня серьёзно, я даже не подозревала, что девочка в четыре года может смотреть глазами настоящей «взрослой мудрости».
«Сколько же боли тебе пришлось пережить!» — подумалось мне тогда.
— Ты не уйдёшь, пока я не научусь быть сильной, — сказала она твёрдо. — Мы вместе победим нашу боль.
Я улыбнулась ей уже сквозь слёзы.
— Ты учишь меня быть сильной… Спасибо тебе, моя маленькая героиня. Моя доченька!
Сонечка была очень слаба и часто уставала. Но когда она не спала, мы разговаривали. И наши беседы были полны простых, но глубоких слов — о её и моих страхах, надеждах и нашей любви, которая постепенно заполняла пустоту сердцах.
В один из дней Соня сказала:
— Мама, я хочу нарисовать нашу семью.
Я попросила медсестёр принести нам альбом и карандаши.
— Давай нарисуем.
Соня начала рисовать — на листе появились две фигуры, держащиеся за руки, окружённые яркими цветами и солнцем.
— Вот это мы, — объяснила девочка. — Я и ты. Вместе навсегда.
Я смотрела на рисунок и чувствовала, как моё сердце наполняется светом и любовью к этому ребёнку.
— Навсегда, — повторила я.
Врачи говорили, что конец близок, но мы молчали.
Я молилась — не словами, а сердцем, прося Бога забрать боль у Сонечки и дать сил нам обеим. Я просила прощения за свою горечь и ненависть к людям, которую носила в себе столько лет, и просила лишь одного — чтобы моя дочь не страдала.
И она не страдала. Боль как будто затихла, её дыхание во сне стало ровнее, лицо — спокойнее.
Часто она стала просить альбом и карандаши. И мы рисовали вместе — её драконы на рисунках были страшными, но она побеждала их, потому что у неё была мама. Я чувствовала, как внутри меня растёт любовь, которую я не знала всю жизнь и уже не надеялась обрести.
Прошла неделя, потом вторая.
После очередного нашего обследования врачи были поражены — наши опухоли начали уменьшаться, а метастазы рассасывались. Это было настоящее чудо, которое случилось благодаря нашей любви, нашей связи, нашей надежде, нашей обретённой семье.
Я научилась любить и быть любимой — даже в палате для умирающих.
Прошёл год после нашей с Сонечкой встречи. Когда нам разрешили вернуться домой после выписки, я удочерила девочку. Помогли мои знакомые.
Мы всё ещё ходим к онкологам, регулярно проходим обследования. Но врачи говорят, что у Сонечки опухоль исчезла, никто не понимает, как это может быть. Никто не верит и в мои метастазы, если не увидят старые снимки, а первичная опухоль в лёгких стала меньше.
Я верю в нашу семью, я люблю свою дочь. И я знаю, что только благодаря этому, нашей с ней связи, мы окончательно победим болезнь.
Если кто-то прочитает эти строки, пусть знает: даже в самые тёмные дни жизни можно найти свет. Любовь — это сила, которая способна творить чудеса, даже когда надежды уже нет.
Это наша история — история о прощении, о боли и о том, как маленькое сердце может исцелить разбитую душу. И я благодарна судьбе за этот дар.
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Вспоминая всё с самого начала, мне трудно подобрать слова, чтобы описать то, что случилось в той маленькой палате, где я проводила последние дни своей жизни. Но я попробую — ради той девочки, ради того света, который она мне подарила, когда казалось, что вокруг только тьма.
Хоспис. Это место было словно маленький остров в океане боли и отчаяния — тихое, почти незаметное, спрятанное среди высоких деревьев и цветущих кустов улицы. Здесь не было запаха обычных больничных коридоров, только тонкий аромат лаванды и свежих цветов, которые ставили медсестры в небольших вазах на подоконниках.
Меня зовут Ольга. Мне сорок пять лет, и я больна. Рак лёгких с метастазами в кости — диагноз, который звучит как приговор, особенно когда ты одна, никому не нужна. Никого нет рядом — ни мужа, ни родителей, ни детей. Я потеряла всё, что когда-то имела, и, казалось, потеряла и себя. Моя жизнь — это тяжёлая цепь горечи и боли, обиды и одиночества.
Я находилась здесь уже несколько дней, когда в палату, где я лежала, вечером привезли маленькую девочку — Соню. Ей было четыре года, и у неё была запущенная стадия рака мозга. Она была сиротой, её привезли из детдома, где уже не могли выносить её мучительные стоны, крики боли и приступы. Услышала в тот же день в коридоре, как врачи говорили, что ей осталось жить не больше недели.
Сначала я сразу возненавидела её. Стоны, плач — всё это резало меня, как нож.
Почему именно я должна терпеть это?
Почему именно я оказалась в одной комнате с этим маленьким существом, которое всё время зовёт маму?
У меня самой не было мамы, не было семьи, не было надежды. Я была разбита, и эта девочка казалась мне напоминанием о том, чего у меня никогда уже и не будет.
Каждый день её крики становились всё невыносимее. Я пыталась закрывать глаза, затыкать уши, но боль и отчаяние в её голосе проникали глубоко в меня. Иногда я думала, что лучше бы она умерла, чтобы прекратился этот бесконечный ад. И даже решилась — ночью, когда всё стихло, подошла к её кроватке, чтобы отключить аппарат, который поддерживал её жизнь.
Но в тот момент, когда я наклонилась, Соня открыла глаза и тихо сказала:
— Мама, ты пришла...
Я застыла, не в силах двинуться.
В палате хосписа, где царила тишина, нарушаемая лишь тихими вздохами и редкими звуками аппаратов, взгляд маленькой девочки Сони встретился с усталым, но внимательным взглядом взрослого, тоже умирающей женщины, стоявшей около неё рядом.
— Мама?.. — прошептала Соня, голос её был слабым, едва слышным, но в нём звучала надежда.
Я вздрогнула, словно ударившись о невидимую стену. Моё сердце забилось чаще, а в горле пересохло.
— Я… Я не твоя мама, — ответила я, голос дрожал, как будто от страха.
— Но ты здесь, — сказала Соня, улыбаясь слабо, — ты пришла ко мне. Значит, ты моя мама.
Я опустила взгляд на маленькую руку, которую Соня протянула ко мне.
— Я не знаю, как быть мамой, — призналась ей тихо.
— Побудь со мной, — попросила девочка, — …просто побудь рядом. Я боюсь одна.
Помолчав, Соня добавила:
— Мама…
И тут я почувствовала, как что-то тёплое растекается по моей груди, разжигая забытое чувство, когда хотелось семьи, своей, родной кровиночки.
— Хорошо, — прошептала я, осторожно взяв Сонину руку в свою, — я буду с тобой.
Девочка обняла меня, и в её объятиях я впервые за долгое время почувствовала тепло — материнскую любовь, которую никогда ни к кому не испытывала, а очень хотела. Мои руки дрожали, но я не могла оттолкнуть её. Силы меня просто покинули.
В ту ночь мы спали рядом, и я впервые позволила себе плакать — тихо, чтобы не разбудить Соню. Она не стонала, не плакала, она просто была рядом и спала так, как спит здоровый ребёнок. Это было чудом.
Помню следующее утро. В нашей палате, где утренний свет пробивался сквозь занавески, окрашивая стены в мягкий золотистый оттенок, я проснулась первой и лежала тихо, чтобы не разбудить девочку.
Когда Соня проснулась, её большие глаза, полные детской невинности и скрытой боли, уставились на меня, пытаясь справиться с волной эмоций, нахлынувшей после этой ночи.
— Мама, — прошептала Соня, её голос был тонким, как нить паутины, но в нём звучала неподдельная радость, — ты где так долго была? Я так долго тебя ждала!
После таких слов я вздрогнула, словно от неожиданности. Соня смотрела на меня такими большими и верящими глазами, что я не смогла ей прямо сейчас сказать, что мы просто вместе лежим в больнице.
— Я… я только вчера вернулась из командировки, — сказала я тихо девочке, стараясь улыбнуться, хотя голос у меня дрожал. — Спешила к тебе, солнышко. Обними меня, пожалуйста.
Соня улыбнулась и протянула худенькие руки. Я осторожно обняла её, чувствуя, как маленькое тело прижимается ко мне с доверием, которого я совсем не ожидала.
— Ты спала хорошо? — спросила я, гладя девочку по волосам.
— Да, — ответила Соня, — я даже видела сны. Мне снились драконы, которых я победила.
— Драконы? — удивилась я тогда. — Какие они были?
— Большие и страшные, — сказала Соня, — но я была храброй. Я взяла меч и прогнала их далеко-далеко.
И она даже показала, как именно она прогоняла драконов. И я улыбнулась, впервые за долгое время почувствовав лёгкость.
После нашего завтрака я всё-таки решилась сказать девочке, что не являюсь её мамой.
— Ты настоящая героиня, Соня, — сказала ей тихо. — А я… я не знаю, как быть мамой…
У меня сорвался голос от волнения, не зная, как признаться, что обманула её ожидания.
— Я знаю, что ненастоящая мама… Ты хорошая, ты мне понравилась. Побудь моей мамой! — уверенно сказала девочка. — Просто надо попробовать. Ты сможешь.
Я взглянула на неё с нежностью, из глаз полились слёзы.
— А ты хочешь, чтобы я была твоей мамой? — спросила её.
— Очень хочу, — ответила Соня и крепче сжала мою руку. — Мне так одиноко.
Глаза полностью наполнились слезами. Я прижала Соню к себе и прошептала:
— Тогда я буду с тобой. Всегда.
Соня улыбнулась — улыбкой, которая осветила всю палату, как первый луч солнца после долгой бури. Она протянула ко мне свои худенькие ручки, и я обняла её, чувствуя, как маленькое тельце прижимается ко мне с доверием и любовью.
В этот миг, в нашей с Соней палате хосписа, я поняла: теперь я стала мамой. Не по крови, не по судьбе, но по сердцу — и это было самое настоящее чудо.
А дни шли дальше.
Болезнь не отступила, нет. Приступы не прекратились, но между нами выросла связь сильнее боли и страха перед страшной болезнью.
Теперь Сонечке почти каждый день снились сны. Она рассказывала мне о них, о драконах, которых она побеждала, и я слушала, забывая о своей собственной боли.
Когда её приступы становились невыносимыми, я брала её за руку и говорила:
— Давай приляжем вместе, отдохнём.
Она улыбалась, сжимая зубы, чтобы не издать ни звука, и засыпала, держа меня за руку и глядя в мои глаза.
В другой раз Соня спросила:
— Расскажи мне про тебя, мама. Какая ты была, когда была маленькой?
Я задумалась.
— Я была одинокой девочкой, — начинала рассказывать я тихо. — У меня не было мамы и папы, и я часто боялась. Почти всего. Но я мечтала о семье.
— А теперь у тебя есть я, — улыбнулась Соня. — Мы семья.
— Да, — согласилась я с ней, обнимая худенькое тельце. — И это самое главное чудо в моей жизни.
Время шло. Каждый наш разговор становился всё глубже, всё теплее. Однажды вечером, когда палата уже погрузилась в полумрак, Соня тихо спросила:
— Мама, а почему ты такая грустная?
Я вздохнула, не зная, с чего начать.
— Потому что у меня много боли, — призналась. — И я боюсь, что скоро меня не станет.
Соня посмотрела на меня серьёзно, я даже не подозревала, что девочка в четыре года может смотреть глазами настоящей «взрослой мудрости».
«Сколько же боли тебе пришлось пережить!» — подумалось мне тогда.
— Ты не уйдёшь, пока я не научусь быть сильной, — сказала она твёрдо. — Мы вместе победим нашу боль.
Я улыбнулась ей уже сквозь слёзы.
— Ты учишь меня быть сильной… Спасибо тебе, моя маленькая героиня. Моя доченька!
Сонечка была очень слаба и часто уставала. Но когда она не спала, мы разговаривали. И наши беседы были полны простых, но глубоких слов — о её и моих страхах, надеждах и нашей любви, которая постепенно заполняла пустоту сердцах.
В один из дней Соня сказала:
— Мама, я хочу нарисовать нашу семью.
Я попросила медсестёр принести нам альбом и карандаши.
— Давай нарисуем.
Соня начала рисовать — на листе появились две фигуры, держащиеся за руки, окружённые яркими цветами и солнцем.
— Вот это мы, — объяснила девочка. — Я и ты. Вместе навсегда.
Я смотрела на рисунок и чувствовала, как моё сердце наполняется светом и любовью к этому ребёнку.
— Навсегда, — повторила я.
Врачи говорили, что конец близок, но мы молчали.
Я молилась — не словами, а сердцем, прося Бога забрать боль у Сонечки и дать сил нам обеим. Я просила прощения за свою горечь и ненависть к людям, которую носила в себе столько лет, и просила лишь одного — чтобы моя дочь не страдала.
И она не страдала. Боль как будто затихла, её дыхание во сне стало ровнее, лицо — спокойнее.
Часто она стала просить альбом и карандаши. И мы рисовали вместе — её драконы на рисунках были страшными, но она побеждала их, потому что у неё была мама. Я чувствовала, как внутри меня растёт любовь, которую я не знала всю жизнь и уже не надеялась обрести.
Прошла неделя, потом вторая.
После очередного нашего обследования врачи были поражены — наши опухоли начали уменьшаться, а метастазы рассасывались. Это было настоящее чудо, которое случилось благодаря нашей любви, нашей связи, нашей надежде, нашей обретённой семье.
Я научилась любить и быть любимой — даже в палате для умирающих.
Прошёл год после нашей с Сонечкой встречи. Когда нам разрешили вернуться домой после выписки, я удочерила девочку. Помогли мои знакомые.
Мы всё ещё ходим к онкологам, регулярно проходим обследования. Но врачи говорят, что у Сонечки опухоль исчезла, никто не понимает, как это может быть. Никто не верит и в мои метастазы, если не увидят старые снимки, а первичная опухоль в лёгких стала меньше.
Я верю в нашу семью, я люблю свою дочь. И я знаю, что только благодаря этому, нашей с ней связи, мы окончательно победим болезнь.
Если кто-то прочитает эти строки, пусть знает: даже в самые тёмные дни жизни можно найти свет. Любовь — это сила, которая способна творить чудеса, даже когда надежды уже нет.
Это наша история — история о прощении, о боли и о том, как маленькое сердце может исцелить разбитую душу. И я благодарна судьбе за этот дар.
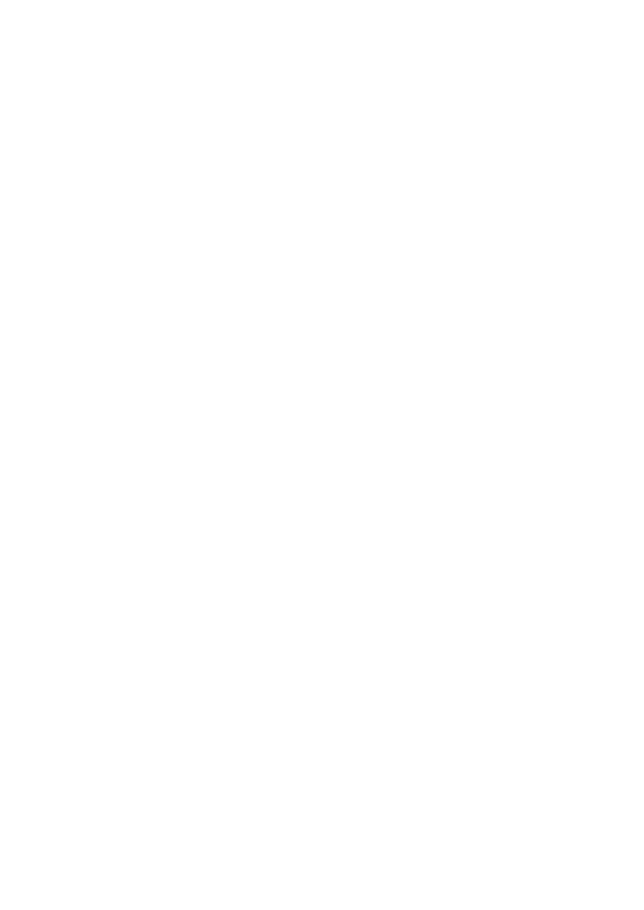
Перестраховка
Аннотация
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Жанна Сергеевна сидела за своим столом в маленькой поликлинике на окраине города, где осень уже стучалась в окна холодным дождем. За окном темнело, и лампа на столе отбрасывала теплый желтый свет на стопку историй болезней. Жанна была терапевтом с двадцатилетним стажем. Она любила свою работу, но иногда сомнения грызли ее изнутри, как невидимые черви. Гипердиагностика — это слово, которое коллеги иногда шептали за её спиной, часто обвиняя в перестраховке. А она просто не хотела рисковать человеческими жизнями.
В коридоре послышались шаги. Дверь приоткрылась, вошел мужчина лет пятидесяти, с женой под руку. Жанна узнала его — Виктор Иванович, гипертоник с ее участка. В марте он проходил диспансеризацию: холестерин в норме — 3,8 ммоль/л, давление стабилизировалось на 130/90 мм рт. ст. Не курил, ожирения не было. Идеальный пациент, можно сказать. Но сегодня он выглядел иначе. Лицо его было бледным, с землистым оттенком, как будто он только что выбрался из подвала. Глаза ввалились, а плечи ссутулились под весом невидимой ноши.
— Добрый вечер, Жанна Сергеевна, — сказал Виктор Иванович, опускаясь на стул. Его голос был хриплым, как будто слова давались с трудом. — Извините, что в такое время, но спина болит уже два дня. Ничего страшного, наверное, но... от боли стало трудно дышать.
Жена, Мария, кивнула, ее глаза были полны тревоги. Она была полноватой женщиной с добрым лицом, всегда поддерживающей мужа в его "борьбе" с давлением.
— Да, доктор, — добавила она. — Он говорит, жжет между лопаток, стреляет. В прошлом году кололи уколы от хондроза, и все прошло. Может, и сейчас то же самое?
Жанна Сергеевна кивнула головой, но внутри что-то мелькнуло, тревожно стало.
Остеохондроз? Возможно. Но одышка... Это не вписывалось в картину.
Она вспомнила медицинские лекции: боль в спине может маскировать инфаркт, особенно у гипертоников.
Не параной, — подумала она. — Но лучше перестраховаться.
— Расскажите подробнее, Виктор Иванович, — попросила она, надевая стетоскоп. — Где именно болит? Когда усиливается?
— Между лопаток, как будто ножом режет, — ответил он, морщась. — И когда хожу быстро, задыхаюсь. Потороплюсь — и все, воздуха не хватает. Может, это от нервов? Работа стрессовая...
Анна Сергеевна осмотрела его: кожа сухая, пульс учащенный, но ничего особо подозрительного. Давление — 160/90 мм рт. ст., чуть выше нормы, но могло подняться от боли.
Может, и правда остеохондроз, — подумала она. —Но одышка не вписывается в картинку... Сердце?
— Давайте ЭКГ сделаем, на всякий случай, — предложила она. — Вдруг что-то с сердцем.
Виктор Иванович вздохнул, но согласился. Мария поддержала:
— Делайте, доктор. Лучше знать наверняка.
Медсестра Надя быстро подключила электрокардиограф. Пленка вышла ровной, как и в марте. Нет признаков ишемии, никаких отклонений. Жанна Сергеевна уставилась на нее, как на загадку.
Идеальное ЭКГ,— подумала она. — Но почему одышка? Почему лицо такое серое?
— Смотрите, доктор, — сказал Виктор Иванович, потирая спину. — Может, просто уколы выпишете? Мы дома полечимся, как в прошлом году.
Мария кивнула:
— Да, мы не хотим вас беспокоить. Если это хондроз, то и так пройдет.
Жанна Сергеевна колебалась. Она видела, как пациенты с остеохондрозом выглядят "здоровыми" — румяные, полные сил. А Виктор Иванович... Его землистый цвет лица не давал покоя.
Может, конечно, и гипердиагностика… — подумала она. — Коллеги будут смеяться. Но… вдруг инфаркт?
— Я предлагаю поехать в региональный сосудистый центр, — сказала она твердо. — На «скорой». На всякий случай. Одышка меня беспокоит.
Виктор Иванович и Мария переглянулись.
— Зачем? — спросил он. — Уколы, и все. Мы не хотим в больницу.
— Пожалуйста, — настаивала Жанна Сергеевна. — Это может быть не просто спина. Сердце иногда маскируется под хондроз.
Мария нахмурилась:
— Но ЭКГ нормальная. Может, вы преувеличиваете?
Жанна Сергеевна почувствовала, как горят её щёки. Она представила, как фельдшер «скорой» будет кривить лицо, а кардиологи в приемной — проклинать ее.
"Гипердиагностика," — эхом отозвалось в голове. Но она не отступила.
— Я вызываю бригаду, — сказала она. — Без подъема, просто отвезут. И кеторол введу, чтобы боль снять.
Она ввела обезболивающее в вену. Боль утихла почти сразу, Виктор Иванович расслабился.
— Спасибо, доктор, — пробормотал он. — Может, зря беспокоитесь.
«Скорая» приехала через сорок минут. Фельдшер Сергей, крепкий парень с усталыми глазами, вошел в кабинет.
— Что у нас? — спросил он, глядя на Виктора Ивановича.
— Боль в спине, одышка, — ответила Жанна Сергеевна. — ЭКГ нормальная, но лицо серое. Подозреваю инфаркт.
Сергей осмотрел пациента и вздохнул:
— Лицо нормальное, боли нет. Но вы врач, отказать не можем. Поедем.
Жанна Сергеевна потупила глаза в пол.
"Зря," — подумала она. — "Они будут кататься впустую."
Она проводила их до машины, чувствуя стыд.
"Гипердиагностика," — повторила она про себя. — "Я никчемная терапевт."
Вечер слился с вызовами. Жанна Сергеевна ездила по домам, осматривала простуды и гипертонии, но мысли крутились вокруг Виктора Ивановича.
Если это не инфаркт, то ладно. А если да? Что если я бы упустила?
Она вернулась в поликлинику поздно, с тяжелым сердцем. Коллеги уже разошлись, и тишина давила на плечи.
Уже на следующий день она забыла об этом случае. Работа закружила: новые пациенты, бумаги, звонки.
Но через четыре недели, в пятницу, дверь кабинета снова открылась. Вошли Виктор Иванович и Мария. Они не были с пустыми руками — в руках у Марии был букет цветов и коробка конфет.
— Жанна Сергеевна! — воскликнул Виктор Иванович, его лицо теперь было румяным, глаза сияли. — Мы к вам с благодарностью!
Врач устало уставилась на них, не веря глазам.
"Что? — подумала она. — После такого?"
Мария улыбнулась сквозь слезы:
— Вы спасли его! В кардиологии сказали: инфаркт передне-перегородочный. Сделали ЧКВ*. Если бы не вы, неизвестно, чем бы кончилось.
Виктор Иванович кивнул:
— Да, доктор. Я думал, это спина. А это сердце было. Спасибо, что убедили нас ехать.
Жанна Сергеевна опустилась на стул, ее руки дрожали. Она взяла выписку из кардиологии — там черным по белому:
"Инфаркт миокарда».
— Как это возможно? — пробормотала она. — ЭКГ была нормальной...
Виктор Иванович сел напротив:
— Врачи сказали, что иногда так бывает. Боль в спине маскировала, а одышка была от сердца. Кеторол снял боль, но без вашей настойчивости... Я бы дома лежал, и все.
Мария добавила:
— Мы думали, вы преувеличиваете. А теперь понимаем: вы нас спасли.
Жанна Сергеевна почувствовала, как на душе теплеет. Не от радости по поводу инфаркта, конечно, — от того, что непоправимого не случилось. Она вспомнила свои сомнения, стыд за "гипердиагностику".
"Да, сомневаться — это не слабость," — подумала она. — "Это сила."
Они посидели еще немного, поговорили. Виктор Иванович рассказал, как в больнице его оперировали: ввели катетер, расширили сосуд. Сейчас он на реабилитации, давление в норме, и он даже шутит над собой.
— Я теперь буду слушать врачей, — сказал он. — Особенно таких, как вы.
Мария обняла доктора:
— Спасибо. Вы — наш ангел-хранитель.
Жанна Сергеевна проводила их, держа букет в руках. Дверь закрылась, и она осталась одна.
— Учиться и учиться, — прошептала она, улыбаясь.
В тот вечер она чувствовала себя победителем. Она убедилась, что сомнения спасают жизни.
Вечером, дома, Жанна Сергеевна села писать в свой дневник.
"Недавно я спасла человека своим сомнением.
В медицине нет идеальных ЭКГ, когда дело касается сердца.
Потому что перестраховка — это забота. Забота о пациенте"
Город за окном спал, а она улыбалась. Она любит свою работу
Пояснения:
*ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство - это общий термин, который охватывает много различных методов, предназначенных для уменьшения стеноза коронарной артерии.
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Жанна Сергеевна сидела за своим столом в маленькой поликлинике на окраине города, где осень уже стучалась в окна холодным дождем. За окном темнело, и лампа на столе отбрасывала теплый желтый свет на стопку историй болезней. Жанна была терапевтом с двадцатилетним стажем. Она любила свою работу, но иногда сомнения грызли ее изнутри, как невидимые черви. Гипердиагностика — это слово, которое коллеги иногда шептали за её спиной, часто обвиняя в перестраховке. А она просто не хотела рисковать человеческими жизнями.
В коридоре послышались шаги. Дверь приоткрылась, вошел мужчина лет пятидесяти, с женой под руку. Жанна узнала его — Виктор Иванович, гипертоник с ее участка. В марте он проходил диспансеризацию: холестерин в норме — 3,8 ммоль/л, давление стабилизировалось на 130/90 мм рт. ст. Не курил, ожирения не было. Идеальный пациент, можно сказать. Но сегодня он выглядел иначе. Лицо его было бледным, с землистым оттенком, как будто он только что выбрался из подвала. Глаза ввалились, а плечи ссутулились под весом невидимой ноши.
— Добрый вечер, Жанна Сергеевна, — сказал Виктор Иванович, опускаясь на стул. Его голос был хриплым, как будто слова давались с трудом. — Извините, что в такое время, но спина болит уже два дня. Ничего страшного, наверное, но... от боли стало трудно дышать.
Жена, Мария, кивнула, ее глаза были полны тревоги. Она была полноватой женщиной с добрым лицом, всегда поддерживающей мужа в его "борьбе" с давлением.
— Да, доктор, — добавила она. — Он говорит, жжет между лопаток, стреляет. В прошлом году кололи уколы от хондроза, и все прошло. Может, и сейчас то же самое?
Жанна Сергеевна кивнула головой, но внутри что-то мелькнуло, тревожно стало.
Остеохондроз? Возможно. Но одышка... Это не вписывалось в картину.
Она вспомнила медицинские лекции: боль в спине может маскировать инфаркт, особенно у гипертоников.
Не параной, — подумала она. — Но лучше перестраховаться.
— Расскажите подробнее, Виктор Иванович, — попросила она, надевая стетоскоп. — Где именно болит? Когда усиливается?
— Между лопаток, как будто ножом режет, — ответил он, морщась. — И когда хожу быстро, задыхаюсь. Потороплюсь — и все, воздуха не хватает. Может, это от нервов? Работа стрессовая...
Анна Сергеевна осмотрела его: кожа сухая, пульс учащенный, но ничего особо подозрительного. Давление — 160/90 мм рт. ст., чуть выше нормы, но могло подняться от боли.
Может, и правда остеохондроз, — подумала она. —Но одышка не вписывается в картинку... Сердце?
— Давайте ЭКГ сделаем, на всякий случай, — предложила она. — Вдруг что-то с сердцем.
Виктор Иванович вздохнул, но согласился. Мария поддержала:
— Делайте, доктор. Лучше знать наверняка.
Медсестра Надя быстро подключила электрокардиограф. Пленка вышла ровной, как и в марте. Нет признаков ишемии, никаких отклонений. Жанна Сергеевна уставилась на нее, как на загадку.
Идеальное ЭКГ,— подумала она. — Но почему одышка? Почему лицо такое серое?
— Смотрите, доктор, — сказал Виктор Иванович, потирая спину. — Может, просто уколы выпишете? Мы дома полечимся, как в прошлом году.
Мария кивнула:
— Да, мы не хотим вас беспокоить. Если это хондроз, то и так пройдет.
Жанна Сергеевна колебалась. Она видела, как пациенты с остеохондрозом выглядят "здоровыми" — румяные, полные сил. А Виктор Иванович... Его землистый цвет лица не давал покоя.
Может, конечно, и гипердиагностика… — подумала она. — Коллеги будут смеяться. Но… вдруг инфаркт?
— Я предлагаю поехать в региональный сосудистый центр, — сказала она твердо. — На «скорой». На всякий случай. Одышка меня беспокоит.
Виктор Иванович и Мария переглянулись.
— Зачем? — спросил он. — Уколы, и все. Мы не хотим в больницу.
— Пожалуйста, — настаивала Жанна Сергеевна. — Это может быть не просто спина. Сердце иногда маскируется под хондроз.
Мария нахмурилась:
— Но ЭКГ нормальная. Может, вы преувеличиваете?
Жанна Сергеевна почувствовала, как горят её щёки. Она представила, как фельдшер «скорой» будет кривить лицо, а кардиологи в приемной — проклинать ее.
"Гипердиагностика," — эхом отозвалось в голове. Но она не отступила.
— Я вызываю бригаду, — сказала она. — Без подъема, просто отвезут. И кеторол введу, чтобы боль снять.
Она ввела обезболивающее в вену. Боль утихла почти сразу, Виктор Иванович расслабился.
— Спасибо, доктор, — пробормотал он. — Может, зря беспокоитесь.
«Скорая» приехала через сорок минут. Фельдшер Сергей, крепкий парень с усталыми глазами, вошел в кабинет.
— Что у нас? — спросил он, глядя на Виктора Ивановича.
— Боль в спине, одышка, — ответила Жанна Сергеевна. — ЭКГ нормальная, но лицо серое. Подозреваю инфаркт.
Сергей осмотрел пациента и вздохнул:
— Лицо нормальное, боли нет. Но вы врач, отказать не можем. Поедем.
Жанна Сергеевна потупила глаза в пол.
"Зря," — подумала она. — "Они будут кататься впустую."
Она проводила их до машины, чувствуя стыд.
"Гипердиагностика," — повторила она про себя. — "Я никчемная терапевт."
Вечер слился с вызовами. Жанна Сергеевна ездила по домам, осматривала простуды и гипертонии, но мысли крутились вокруг Виктора Ивановича.
Если это не инфаркт, то ладно. А если да? Что если я бы упустила?
Она вернулась в поликлинику поздно, с тяжелым сердцем. Коллеги уже разошлись, и тишина давила на плечи.
Уже на следующий день она забыла об этом случае. Работа закружила: новые пациенты, бумаги, звонки.
Но через четыре недели, в пятницу, дверь кабинета снова открылась. Вошли Виктор Иванович и Мария. Они не были с пустыми руками — в руках у Марии был букет цветов и коробка конфет.
— Жанна Сергеевна! — воскликнул Виктор Иванович, его лицо теперь было румяным, глаза сияли. — Мы к вам с благодарностью!
Врач устало уставилась на них, не веря глазам.
"Что? — подумала она. — После такого?"
Мария улыбнулась сквозь слезы:
— Вы спасли его! В кардиологии сказали: инфаркт передне-перегородочный. Сделали ЧКВ*. Если бы не вы, неизвестно, чем бы кончилось.
Виктор Иванович кивнул:
— Да, доктор. Я думал, это спина. А это сердце было. Спасибо, что убедили нас ехать.
Жанна Сергеевна опустилась на стул, ее руки дрожали. Она взяла выписку из кардиологии — там черным по белому:
"Инфаркт миокарда».
— Как это возможно? — пробормотала она. — ЭКГ была нормальной...
Виктор Иванович сел напротив:
— Врачи сказали, что иногда так бывает. Боль в спине маскировала, а одышка была от сердца. Кеторол снял боль, но без вашей настойчивости... Я бы дома лежал, и все.
Мария добавила:
— Мы думали, вы преувеличиваете. А теперь понимаем: вы нас спасли.
Жанна Сергеевна почувствовала, как на душе теплеет. Не от радости по поводу инфаркта, конечно, — от того, что непоправимого не случилось. Она вспомнила свои сомнения, стыд за "гипердиагностику".
"Да, сомневаться — это не слабость," — подумала она. — "Это сила."
Они посидели еще немного, поговорили. Виктор Иванович рассказал, как в больнице его оперировали: ввели катетер, расширили сосуд. Сейчас он на реабилитации, давление в норме, и он даже шутит над собой.
— Я теперь буду слушать врачей, — сказал он. — Особенно таких, как вы.
Мария обняла доктора:
— Спасибо. Вы — наш ангел-хранитель.
Жанна Сергеевна проводила их, держа букет в руках. Дверь закрылась, и она осталась одна.
— Учиться и учиться, — прошептала она, улыбаясь.
В тот вечер она чувствовала себя победителем. Она убедилась, что сомнения спасают жизни.
Вечером, дома, Жанна Сергеевна села писать в свой дневник.
"Недавно я спасла человека своим сомнением.
В медицине нет идеальных ЭКГ, когда дело касается сердца.
Потому что перестраховка — это забота. Забота о пациенте"
Город за окном спал, а она улыбалась. Она любит свою работу
Пояснения:
*ЧКВ - чрескожное коронарное вмешательство - это общий термин, который охватывает много различных методов, предназначенных для уменьшения стеноза коронарной артерии.
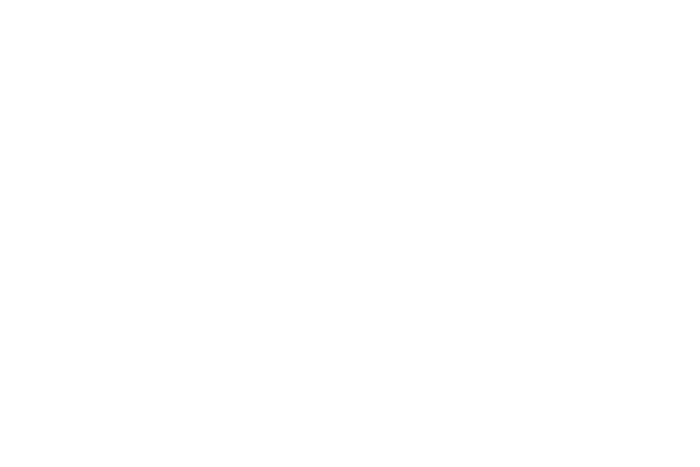
Тень за Зеркалом.
Аннотация
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Часть 1: Первое Впечатление
Мой кабинет, обычно убежище тишины и стерильной ясности, сегодня казался эпицентром какого-то невидимого урагана. Мне захотелось закурить – абсурдное желание для врача, никогда не державшего во рту сигарету. Но эту гамму эмоций, закрутившуюся во мне после одного-единственного приема, я не испытывала давно. Раздражение, удивление, а под конец – щемящая жалость.
Странное сочетание? Ничуть!
Все началось с возмущения. Едва я успела выдохнуть после предыдущего пациента, как дверь распахнулась, и на пороге возникла женщина. Высокая, в ярком, театральном платке, что почти полностью скрывал волосы, и в очках в форме “кошачий глаз”, усыпанных стразами. Она смотрела на меня с неприкрытой властностью.
— Доктор? Елена Яковлевна Маркова, — прозвучало, скорее, как утверждение, чем как вопрос. —Я к вам.
Я сверилась с расписанием.
— Елена Яковлевна, вы записаны ко мне на приём. Но ваша запись на четыре. Сейчас только без пятнадцати три. У меня по записи еще одна пациентка сейчас до вас.
Она окинула меня оценивающим, слегка недовольным взглядом.
— Я уже приехала, доктор. И вижу, коридор пуст. Что я, зря буду сидеть? Мое время — это очень дорогое время.
Я ответила максимально мягко, но твердо.
— Елена Яковлевна, я прекрасно понимаю. Но у меня сейчас уже находится другая пациентка. По записи. И я не могу прерывать прием. Если вы не против, вы можете подождать в холле. Там удобные диваны, на столиках есть журналы, вам не придется скучать одной.
Она скривилась, словно проглотила что-то горькое.
— Диваны, доктор, это для простых смертных. Я не привыкла ждать.
Но возражать не стала. Развернулась и, сверкнув яркими стразами на очках, удалилась.
Моя следующая пациентка, скромная девушка-студентка, робко вошла в кабинет. Я видела, как она бросила на уходящую Елену Яковлевну испуганный взгляд.
Рабочий день продолжался.
Когда спустя час дверь моего кабинета наконец распахнулась для Елены Яковлевны Марковой, я уже немного остыла. Но мое удивление только усилилось. Она пришла уже без платка. На голове у нее была объемная, ярко-рыжая копна, явно парик, уложенный, как говорится, «копна с начесом». Платье, обтягивающее, с металлическим блеском, обрисовывало фигуру, вызывающую уважение к работе пластических хирургов, если таковые имели место. Очки те же, со стразами, которые казались живыми, вспыхивая в лучах потолочной лампы.
— Ну что ж, доктор. Начинайте.
Она уселась на стул для пациента, не дожидаясь приглашения, и демонстративно скрестила руки на груди.
— Елена Яковлевна, давайте начнем с самого начала. Что вас беспокоит? Можете мне рассказать все в подробностях, начиная с первых симптомов.
Я взяла ручку и приготовилась записывать.
— Беспокоит? Доктор, меня беспокоит ваша нерасторопность, но не об этом речь, — она сделала паузу, словно я должна была оценить ее остроумие. — Я здесь из-за глаза.
Она указала длинным, ухоженным пальцем, унизанным перстнями, на левый глаз.
— Полгода назад веко просто взяло и опустилось. Поначалу я думала, ну, старость. Или косметолог что-то не то вколол. Сходила к нему.
— И что сказал косметолог? — я старалась не показывать эмоций.
— Что у него руки золотые и это точно не его работа. Ну, я не дура, конечно. Сразу пошла к офтальмологу, к именитому, понятное дело. Потом к неврологу.
Она презрительно хмыкнула.
— Направили на МРТ головы. И что вы думаете? Ничего!
— А что сказали врачи? Какое заключение они дали? — я старалась вести диалог максимально предметно.
— Ой, доктор, бла-бла-бла, возрастное, блефаропластика десятилетней давности, ботокс ежегодный – это все они уже свалили на меня и мое стремление выглядеть хорошо. Я не успокоилась. Через пару месяцев выбила себе “окно” в своем графике – заметьте, моём графике! – и пролежала целую неделю в неврологии. Лечили старательно: вытяжки из коровьих мозгов, всякие там капельницы, таблетки. Еще миастению исключали. Мучили. Вы, наверное, знаете, что это за процедура ЭНМГ* – когда иголки в мышцы втыкают? Мерзко. Брррр…
Я кивнула. ЭНМГ — процедура действительно неприятная. Но необходимая для исключения ряда серьезных нейромышечных заболеваний.
— Все равно ничего не нашли. Хотя я за это время потеряла восемь килограммов, а печеночные пробы, как мне случайно сказал один ординатор, “зашкаливали давно”. Им всем было все равно. А офтальмолог из специализированного центра, от которого я к вам, кстати, приехала, сказал: “Пусть Абоимова разбирается”. Так что, Абоимова, разбирайтесь. — заключила пациентка.
Я отложила ручку.
— Елена Яковлевна, пожалуйста, сядьте поудобнее. Я хотела бы вас осмотреть.
Я подошла к ней, включила яркий ламповый осветитель. Аккуратно взяла ее за подбородок, чтобы оценить симметрию лица, положение глазных яблок.
Тааак… Левое веко действительно было опущено, но не просто, а казалось «втянутым» в области верхней складки. Сам глаз, блестящий, казался немного погруженным в орбиту.
— Мне нужно будет пальпировать, — предупредила я, прежде чем начать осторожно прощупывать костный край глазницы.
Мои пальцы медленно двигались по косточкам, пытаясь определить границы, болезненность, уплотнения. Прощупывание было деликатным, но настойчивым.
И тут она произнесла фразу, которая меня поразила до глубины души.
— Знаете, вы первая, кто меня потрогал за эти полгода, — ее голос, обычно надменный, вдруг стал тихим, грустным. — Все смотрят, светят, МРТ делают. А вот так, чтобы просто руками… никто.
Я остановилась.
Вот тут-то и нахлынула эта щемящая жалость. Вроде бы само собой разумеется — врач должен осмотреть пациента руками. Этому в медВУЗах учат сразу, с первых курсов. Почувствовать, пропальпировать. Оценить плотность, температуру тканей. А назначить МРТ и другие обследования уже индивидуально, по ситуации.
В данном случае – МРТ орбит при любой подозрительной истории. Тем более при таком анамнезе, когда куча анализов уже сделана, а диагноза нет.
— Елена Яковлевна, для постановки точного диагноза мне нужно увидеть состояние глазницы изнутри. Я назначу вам МРТ именно орбит, с контрастом. Это очень важно.
Она кивнула.
— Хорошо. Я это сделаю.
На следующий день, к моему удивлению, она сидела в приемной ровно в назначенное время. Выглядела менее экстравагантно – простое темное платье, волосы собраны. Но ее глаза горели каким-то нездоровым огнем.
— Вот результаты, доктор, — она протянула мне диск и распечатку. — У меня завтра дело неотложное. Очень торопилась успеть до него. Что там? Результат МРТ меня огорчил, конечно.
Я вставила диск в компьютер, открыла снимки.
Тааак…
Анализы на гормоны щитовидной железы, которые я назначила скорее «на всякий случай», были в норме.
А вот МРТ… Там было четко видно объемное образование в глазнице, затрагивающее и мышцы, и слезную железу. Было бы это обследование сделано в самом начале, полгода назад, возможно, опухоль удалось бы поймать в зародыше.
Я тяжело вздохнула. Это была лишь часть моих худших предположений. Сколько ни учись «сообщению плохих новостей», они все равно застанут врасплох. Я даже не знала, с чего начать разговор.
— Елена Яковлевна, — начала я, стараясь говорить максимально спокойным тоном, — скажите мне, пожалуйста: вы обследование груди регулярно проходите? Маммографию давно делали?
Она вскинула на меня брови, в ее глазах мелькнуло удивление, а потом в них словно что-то сломалось. Она посмотрела мимо меня, в стену, и ее голос стал совершенно другим — вдруг усталым, будничным.
— Я вам больше скажу, доктор. Завтра я ложусь на операцию в онкологию. Нащупала у себя узелок два месяца назад. Сделали пункцию… сказали, рак первой стадии. Решила сразу все убрать.
У меня отвисла челюсть.
— Но… Елена Яковлевна! Когда я вас спрашивала вчера про сопутствующие болезни в прошлый раз, вы мне об этом совершенно ничего не сказали!
Она пожала плечами, словно это было что-то незначительное.
— Честно говоря, доктор, я не подумала, что… это имеет отношение к глазу.
— К сожалению, Елена Яковлевна, имеет, — я взглянула на нее очень серьёзно. — И у нас сейчас три возможных варианта развития событий. Три возможных диагноза.
Первый – это реактивное воспаление. Иногда организм так реагирует на опухоль, даже когда-то удаленную. Поэтому я вас вчера спрашивала, не было ли у вас операций по поводу онкологии. Это самый благоприятный вариант, но накопление контраста на вашем МРТ практически сводит этот шанс к нулю.
Второй – это самостоятельная опухоль. Лимфома, например. Да, у человека могут быть две разных опухоли одновременно.
И третий… самый непредсказуемый. Это метастаз рака молочной железы. Я изначально, еще при первом осмотре, подумала об этом.
Я снова посмотрела на снимок.
— Видите, ваш глаз как бы “втянут”? Большинство других опухолей провоцируют выпячивание. Но я когда-то изучала очень редкий атлас по метастазам в орбиту, и там упоминалось, что именно метастаз рака груди может вести себя парадоксальным образом – не выпячивать глазное яблоко, а, наоборот, втягивать его за счет сморщивания тканей. И прогноз у этого варианта, к сожалению, самый непредсказуемый.
Она смотрела на меня широко открытыми глазами, ее лицо ничего не выражало. Шоковое оцепенение.
— Точный ответ сможет дать только гистология. Но для этого нужно взять образец ткани из вашей орбиты. А сейчас… Сейчас вам нужно сначала восстановиться после операции по удалению груди. Это будет очень непростое время.
Она молча встала, взяла свои вещи. Не сказав ни слова, вышла из кабинета.
Я лишь слышала цокот ее каблуков, удаляющийся по коридору. Когда дверь за ней закрылась, я снова почувствовала этот навязчивый позыв закурить. Или хотя бы выпить чашку крепкого, черного кофе. Потому что я знала: за этой “завтрашней” операцией будет стоять не просто продолжение медицинской и, возможно, семейной драмы, но и столкновение с чем-то гораздо большим, чем просто болезнь.
Часть 2. Между Надеждой и Отчаянием.
Мой кабинет, обычно тихая гавань порядка, казался сегодня полем боя. На столе валялись распечатки МРТ, анализы крови, испещренные цифрами, и протоколы осмотров, исчерченные моим подчерком. Но главной причиной внутреннего смятения был не этот физический беспорядок, а груз невысказанных предположений, что давили на меня с момента ухода Елены Яковлевны.
Ей предстояла операция, а мне — мучительное ожидание результатов, которое переносилось на несколько порядков тяжелее, чем само дежурство или работа в операционной.
Телефонный звонок вырвал меня из задумчивости. Голос в трубке был незнаком, но с первых слов я почему-то поняла, кто звонит.
— Елизавета Петровна? Меня зовут Андрей. Я сын Марковой Елены Яковлевны. Мама дала ваш номер, сказала, что вы единственный врач, который… действительно смотрит.
Его голос дрогнул на последнем слове, и я почувствовала затаенную боль. Это был голос человека, уставшего от медицинского равнодушия и бюрократии.
— Очень приятно, Андрей. Мы с вашей мамой действительно провели довольно продуктивный прием. Как она себя чувствует? Операция прошла успешно?
— Прошла успешно, да. — Вздох на другом конце провода. — То есть, все удалили, мама сейчас в реанимации. Но она просила… просила узнать у вас, по поводу глаза. Она сказала, что у вас есть какие-то… опасения.
Я глубоко вздохнула. Это был тот самый момент, когда нужно было решить: обрисовать ситуацию в общих чертах или говорить прямо, подготавливая почву для самого плохого. Мой профессиональный долг велел быть честной.
— Андрей, мне нужно будет с вами встретиться лично. Сейчас я не могу давать никаких конкретных заключений без гистологии. Но да, у меня есть предположения, которые мы должны обсудить. Когда вы сможете подъехать?
— Хоть сейчас! — Его голос наполнился тревогой. — Я буду через час.
Через час передо мной сидел высокий, немного сутулый мужчина лет сорока с небольшим, с такими же по-прежнему острыми и проницательными глазами, как у его матери, но сейчас наполненными усталостью и беспокойством. В его внешности проглядывали черты Елены Яковлевны, но с налетом какой-то мягкой интеллигентности.
— Итак, Елизавета Петровна, — начал он, нервно теребя кончики пальцев. — Что там с глазом? Мама ничего толком не объясняет, только нервничает.
Я положила перед ним пачку снимков МРТ.
— Андрей, видите это образование? — Я указала на серую тень, что пряталась за глазным яблоком. — Оно нехарактерно для обычной доброкачественной патологии. Мы имеем дело либо с самостоятельной опухолью, например, лимфомой, либо…
Я сделала паузу, тщательно подбирая слова.
— Либо это метастаз. Распространение… той самой опухоли груди, которую прооперировали.
Его лицо побледнело, а потом стало пепельно-серым.
— Метастаз… То есть, рак уже… распространился? Но онколог сказал, что это первая стадия, все удалено, прогноз хороший!
— Андрей, онкология — наука очень сложная. И “первая стадия” относится к первичному очагу. Вы прекрасно знаете, как быстро могут развиваться события. Когда я осматривала вашу маму, меня насторожило… как бы это сказать… необычное поведение этого образования. Большинство опухолей в глазнице приводят к выпячиванию глаза. Но здесь мы имеем дело с обратным эффектом — глазное яблоко «просело». И в специальной литературе я читала, что именно метастазы рака молочной железы могут так себя вести. Это редкость, но такое возможно.
Андрей молчал, уставившись в пол. Я видела, как в его глазах заметалась паника.
— Что теперь? — он поднял на меня взгляд, а в его глазах застыла мольба.
— Теперь нам нужна гистология. Образование расположено очень глубоко, и биопсия будет крайне сложной. Но без нее мы не сможем точно определить диагноз и, соответственно, лечение. Я уже связалась с хирургом-офтальмологом, профессором Смирновым, он один из немногих в стране, кто способен провести такую операцию.
Андрей кивнул. Его губы дрожали.
— Мама… она такая сильная. Всегда была. Переживала столько проблем в своей жизни, перестройку, смерть отца. Я думал, что уж она-то непобедима.
— Это очень сложно, Андрей. Для любого человека. Но ваша мама действительно очень сильная. И ей сейчас как никогда нужна ваша поддержка.
Профессор Смирнов, лысоватый, но невероятно энергичный мужчина, подтвердил мои опасения. Биопсия была проведена. Результат пришел через неделю, которая показалась мне вечностью.
— Елизавета Петровна, — голос Андрея в трубке был глухим, — маму перевели из реанимации в палату. Она очень просит вас подойти к ней. Я ей кое-что сказал…
Я предчувствовала этот разговор. Сердце колотилось, когда я шла по коридорам больницы.
Елена Яковлевна лежала в отдельной палате. Ее всегда безупречные волосы были растрепаны, а лицо, обычно подтянутое, осунулось и было серым. Рядом с ней сидел Андрей, держа ее за руку. В углу сидела молодая женщина, тихо плакала — это была, видимо, жена Андрея.
— Елизавета Петровна, — голос Елены Яковлевны был слабым, но в нем прорезались стальные нотки. — Андрей мне сказал. Не все, но… достаточно. Так что там с моим глазом?
Я подошла к кровати.
— Елена Яковлевна, результаты биопсии… подтвердили наши самые тяжелые предположения. Это метастаз.
Она закрыла глаза, глубоко вдохнула. Наступила леденящая тишина. В этой тишине отчетливо был слышен всхлип Светланы.
— Значит, это конец, да? — ее голос был едва слышен.
— Нет! — Я категорически покачала головой. — Нет, Елена Яковлевна. Это не конец. Это… начало нового этапа борьбы. Метастатический рак — это не приговор, это серьезное заболевание, которое требует комплексного, порой агрессивного лечения. Химиотерапия, лучевая терапия. Есть новые методы, таргетная терапия, иммунотерапия. Мы будем бороться.
Она открыла глаза. Взгляд был тусклым, но в нем промелькнула искорка.
— Бороться… Я так устала бороться. Всю жизнь. И вот сейчас… опять!
Андрей сжал ее руку.
— Мама, ты не одна. Мы будем бороться вместе. Я, Света… все. Мы тебя любим.
В палате повисла пауза. Я посмотрела на Андрея и Светлану. В их глазах была растерянность, но и непоколебимая решимость. Это было то, что ей нужно. Любовь семьи — мощнейшее оружие в войне с болезнью.
Часть 3. Противостояние и хрупкий мир.
Началась битва.
Елена Яковлевна, несмотря на все боли и слабость после операции, согласилась на агрессивную химиотерапию. Она теряла волосы, ее тошнило, она слабела с каждым днем. Но ее характер — та самая воля, которая привела ее на вершину карьеры, — не давала ей сдаться.
Каждый день Андрей и Светлана были рядом. Он читал ей книги, рассказывал новости, делился воспоминаниями.
Света приносила домашнюю еду, поддерживала ее, когда ей было особенно плохо.
Я видела, как их любовь окутывала Елену Яковлевну теплым, невидимым щитом.
Однажды, во время очередного обхода, я застала их за неожиданным занятием. Андрей читал ей вслух… любовный роман, а Светлана аккуратно расчесывала тонкие, очень редкие волосы Елены Яковлевны.
— Что это вы тут устроили? — я улыбнулась этой «картине маслом».
Елена Яковлевна слабо улыбнулась в ответ.
— Вот видите, доктор! Андрей, он женат, а читает мне про какую-то Жозефину и ее Наполеона. Какой он у меня романтик.
Андрей покраснел.
— Мам, это моя работа! Ты же знаешь, я стал писать сценарии. Это для нового проекта.
— Сценарии? — Я действительно не знала, чем занимается её сын.
— Да, — кивнул Андрей. — После того, как меня уволили несколько лет назад из банка, я решил попробовать себя в творчестве. Всегда любил писать. Не знал, что скажу маме. Но сейчас… сейчас кажется, это неважно.
Елена Яковлевна посмотрела на сына с какой-то нежностью и грустью.
— Неважно… Как же неважно? Всегда важно идти за своей мечтой. Только я… я так долго… все решала за тебя.
Именно в этот момент я увидела в ней не высокопоставленную чиновницу Министерства культуры, а любящую мать, которая, возможно, слишком сильно опекала своего сына, пытаясь строить его жизнь по своим меркам. А он, оказывается, тайно мечтал о творчестве.
— Мама, — Андрей обнял ее. — Я не жалею ни о чем. Я просто хочу, чтобы ты была рядом.
— Буду, сынок, — прошептала она, и впервые за долгое время в ее глазах блеснули слезы. — Буду.
Прошло еще несколько месяцев.
Химиотерапия давала о себе знать, но и приносила результаты.
Опухоль в глазнице, хоть и не исчезла полностью, значительно уменьшилась. Состояние Елены Яковлевны стабилизировалось. Она окрепла, начала вставать, гулять по больничному саду. Ее глаза, хотя и оставались немного “впавшими”, снова обрели живой блеск.
Однажды, во время плановой консультации, она спросила меня:
— Елизавета Петровна, скажите, а что дальше? Я… я не хочу просто ждать.
— Дальше — жизнь, Елена Яковлевна, — ответила я, глядя в ее глаза. — Жизнь с осторожностью, с регулярными обследованиями, но жизнь. У вас есть сын, у вас есть внуки?
— Внучка у меня, Елизавета Петровна. Дочка Андрея. Она маленькая еще, но такая смышленая. Хочу ее на дачу свозить. Хочу, чтобы Андрей дописал свой сценарий. И хочу съездить в Венецию — я всегда мечтала.
Я улыбнулась. В ее словах звучала надежда. Надежда, которая, как ни странно, очень часто оказывается самым эффективным лекарством.
— Отлично, — сказала я. — Значит, так и сделаем. Будем следить за вашим здоровьем, а вы — за своей мечтой.
Когда она ушла, я снова почувствовала потребность закурить.
Но вместо этого, я просто глубоко вдохнула. На этот раз это не было от отчаяния или усталости. Это было от ощущения хрупкой, но осязаемой победы. Победы не только медицины, но и человеческого духа.
Я знала, что болезнь может вернуться. Знала, что каждый день для Елены Яковлевны теперь будет подарком. Но я также знала, что она встретит его с высоко поднятой головой, окруженная заботой и любовью своей семьи, и что самое главное — она снова нашла силы мечтать.
А это в моей профессии — высшая награда. Иногда самые страшные диагнозы открывают глаза на самые важные вещи. Открывают занавес на то, что действительно имеет для нас значение.
Пояснения:
* ЭНМГ – электронейромиография – современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы. Обследование дает возможность обнаружения не только функциональных и органических патологий нервной системы. Диагностика проводится и в урологической, хирургической, акушерской и офтальмологической практиках. Процедура электронейромиографии заключается в воздействии низкоинтенсивных электрических импульсов и фиксации ответной реакции специальным оборудованием.
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Часть 1: Первое Впечатление
Мой кабинет, обычно убежище тишины и стерильной ясности, сегодня казался эпицентром какого-то невидимого урагана. Мне захотелось закурить – абсурдное желание для врача, никогда не державшего во рту сигарету. Но эту гамму эмоций, закрутившуюся во мне после одного-единственного приема, я не испытывала давно. Раздражение, удивление, а под конец – щемящая жалость.
Странное сочетание? Ничуть!
Все началось с возмущения. Едва я успела выдохнуть после предыдущего пациента, как дверь распахнулась, и на пороге возникла женщина. Высокая, в ярком, театральном платке, что почти полностью скрывал волосы, и в очках в форме “кошачий глаз”, усыпанных стразами. Она смотрела на меня с неприкрытой властностью.
— Доктор? Елена Яковлевна Маркова, — прозвучало, скорее, как утверждение, чем как вопрос. —Я к вам.
Я сверилась с расписанием.
— Елена Яковлевна, вы записаны ко мне на приём. Но ваша запись на четыре. Сейчас только без пятнадцати три. У меня по записи еще одна пациентка сейчас до вас.
Она окинула меня оценивающим, слегка недовольным взглядом.
— Я уже приехала, доктор. И вижу, коридор пуст. Что я, зря буду сидеть? Мое время — это очень дорогое время.
Я ответила максимально мягко, но твердо.
— Елена Яковлевна, я прекрасно понимаю. Но у меня сейчас уже находится другая пациентка. По записи. И я не могу прерывать прием. Если вы не против, вы можете подождать в холле. Там удобные диваны, на столиках есть журналы, вам не придется скучать одной.
Она скривилась, словно проглотила что-то горькое.
— Диваны, доктор, это для простых смертных. Я не привыкла ждать.
Но возражать не стала. Развернулась и, сверкнув яркими стразами на очках, удалилась.
Моя следующая пациентка, скромная девушка-студентка, робко вошла в кабинет. Я видела, как она бросила на уходящую Елену Яковлевну испуганный взгляд.
Рабочий день продолжался.
Когда спустя час дверь моего кабинета наконец распахнулась для Елены Яковлевны Марковой, я уже немного остыла. Но мое удивление только усилилось. Она пришла уже без платка. На голове у нее была объемная, ярко-рыжая копна, явно парик, уложенный, как говорится, «копна с начесом». Платье, обтягивающее, с металлическим блеском, обрисовывало фигуру, вызывающую уважение к работе пластических хирургов, если таковые имели место. Очки те же, со стразами, которые казались живыми, вспыхивая в лучах потолочной лампы.
— Ну что ж, доктор. Начинайте.
Она уселась на стул для пациента, не дожидаясь приглашения, и демонстративно скрестила руки на груди.
— Елена Яковлевна, давайте начнем с самого начала. Что вас беспокоит? Можете мне рассказать все в подробностях, начиная с первых симптомов.
Я взяла ручку и приготовилась записывать.
— Беспокоит? Доктор, меня беспокоит ваша нерасторопность, но не об этом речь, — она сделала паузу, словно я должна была оценить ее остроумие. — Я здесь из-за глаза.
Она указала длинным, ухоженным пальцем, унизанным перстнями, на левый глаз.
— Полгода назад веко просто взяло и опустилось. Поначалу я думала, ну, старость. Или косметолог что-то не то вколол. Сходила к нему.
— И что сказал косметолог? — я старалась не показывать эмоций.
— Что у него руки золотые и это точно не его работа. Ну, я не дура, конечно. Сразу пошла к офтальмологу, к именитому, понятное дело. Потом к неврологу.
Она презрительно хмыкнула.
— Направили на МРТ головы. И что вы думаете? Ничего!
— А что сказали врачи? Какое заключение они дали? — я старалась вести диалог максимально предметно.
— Ой, доктор, бла-бла-бла, возрастное, блефаропластика десятилетней давности, ботокс ежегодный – это все они уже свалили на меня и мое стремление выглядеть хорошо. Я не успокоилась. Через пару месяцев выбила себе “окно” в своем графике – заметьте, моём графике! – и пролежала целую неделю в неврологии. Лечили старательно: вытяжки из коровьих мозгов, всякие там капельницы, таблетки. Еще миастению исключали. Мучили. Вы, наверное, знаете, что это за процедура ЭНМГ* – когда иголки в мышцы втыкают? Мерзко. Брррр…
Я кивнула. ЭНМГ — процедура действительно неприятная. Но необходимая для исключения ряда серьезных нейромышечных заболеваний.
— Все равно ничего не нашли. Хотя я за это время потеряла восемь килограммов, а печеночные пробы, как мне случайно сказал один ординатор, “зашкаливали давно”. Им всем было все равно. А офтальмолог из специализированного центра, от которого я к вам, кстати, приехала, сказал: “Пусть Абоимова разбирается”. Так что, Абоимова, разбирайтесь. — заключила пациентка.
Я отложила ручку.
— Елена Яковлевна, пожалуйста, сядьте поудобнее. Я хотела бы вас осмотреть.
Я подошла к ней, включила яркий ламповый осветитель. Аккуратно взяла ее за подбородок, чтобы оценить симметрию лица, положение глазных яблок.
Тааак… Левое веко действительно было опущено, но не просто, а казалось «втянутым» в области верхней складки. Сам глаз, блестящий, казался немного погруженным в орбиту.
— Мне нужно будет пальпировать, — предупредила я, прежде чем начать осторожно прощупывать костный край глазницы.
Мои пальцы медленно двигались по косточкам, пытаясь определить границы, болезненность, уплотнения. Прощупывание было деликатным, но настойчивым.
И тут она произнесла фразу, которая меня поразила до глубины души.
— Знаете, вы первая, кто меня потрогал за эти полгода, — ее голос, обычно надменный, вдруг стал тихим, грустным. — Все смотрят, светят, МРТ делают. А вот так, чтобы просто руками… никто.
Я остановилась.
Вот тут-то и нахлынула эта щемящая жалость. Вроде бы само собой разумеется — врач должен осмотреть пациента руками. Этому в медВУЗах учат сразу, с первых курсов. Почувствовать, пропальпировать. Оценить плотность, температуру тканей. А назначить МРТ и другие обследования уже индивидуально, по ситуации.
В данном случае – МРТ орбит при любой подозрительной истории. Тем более при таком анамнезе, когда куча анализов уже сделана, а диагноза нет.
— Елена Яковлевна, для постановки точного диагноза мне нужно увидеть состояние глазницы изнутри. Я назначу вам МРТ именно орбит, с контрастом. Это очень важно.
Она кивнула.
— Хорошо. Я это сделаю.
На следующий день, к моему удивлению, она сидела в приемной ровно в назначенное время. Выглядела менее экстравагантно – простое темное платье, волосы собраны. Но ее глаза горели каким-то нездоровым огнем.
— Вот результаты, доктор, — она протянула мне диск и распечатку. — У меня завтра дело неотложное. Очень торопилась успеть до него. Что там? Результат МРТ меня огорчил, конечно.
Я вставила диск в компьютер, открыла снимки.
Тааак…
Анализы на гормоны щитовидной железы, которые я назначила скорее «на всякий случай», были в норме.
А вот МРТ… Там было четко видно объемное образование в глазнице, затрагивающее и мышцы, и слезную железу. Было бы это обследование сделано в самом начале, полгода назад, возможно, опухоль удалось бы поймать в зародыше.
Я тяжело вздохнула. Это была лишь часть моих худших предположений. Сколько ни учись «сообщению плохих новостей», они все равно застанут врасплох. Я даже не знала, с чего начать разговор.
— Елена Яковлевна, — начала я, стараясь говорить максимально спокойным тоном, — скажите мне, пожалуйста: вы обследование груди регулярно проходите? Маммографию давно делали?
Она вскинула на меня брови, в ее глазах мелькнуло удивление, а потом в них словно что-то сломалось. Она посмотрела мимо меня, в стену, и ее голос стал совершенно другим — вдруг усталым, будничным.
— Я вам больше скажу, доктор. Завтра я ложусь на операцию в онкологию. Нащупала у себя узелок два месяца назад. Сделали пункцию… сказали, рак первой стадии. Решила сразу все убрать.
У меня отвисла челюсть.
— Но… Елена Яковлевна! Когда я вас спрашивала вчера про сопутствующие болезни в прошлый раз, вы мне об этом совершенно ничего не сказали!
Она пожала плечами, словно это было что-то незначительное.
— Честно говоря, доктор, я не подумала, что… это имеет отношение к глазу.
— К сожалению, Елена Яковлевна, имеет, — я взглянула на нее очень серьёзно. — И у нас сейчас три возможных варианта развития событий. Три возможных диагноза.
Первый – это реактивное воспаление. Иногда организм так реагирует на опухоль, даже когда-то удаленную. Поэтому я вас вчера спрашивала, не было ли у вас операций по поводу онкологии. Это самый благоприятный вариант, но накопление контраста на вашем МРТ практически сводит этот шанс к нулю.
Второй – это самостоятельная опухоль. Лимфома, например. Да, у человека могут быть две разных опухоли одновременно.
И третий… самый непредсказуемый. Это метастаз рака молочной железы. Я изначально, еще при первом осмотре, подумала об этом.
Я снова посмотрела на снимок.
— Видите, ваш глаз как бы “втянут”? Большинство других опухолей провоцируют выпячивание. Но я когда-то изучала очень редкий атлас по метастазам в орбиту, и там упоминалось, что именно метастаз рака груди может вести себя парадоксальным образом – не выпячивать глазное яблоко, а, наоборот, втягивать его за счет сморщивания тканей. И прогноз у этого варианта, к сожалению, самый непредсказуемый.
Она смотрела на меня широко открытыми глазами, ее лицо ничего не выражало. Шоковое оцепенение.
— Точный ответ сможет дать только гистология. Но для этого нужно взять образец ткани из вашей орбиты. А сейчас… Сейчас вам нужно сначала восстановиться после операции по удалению груди. Это будет очень непростое время.
Она молча встала, взяла свои вещи. Не сказав ни слова, вышла из кабинета.
Я лишь слышала цокот ее каблуков, удаляющийся по коридору. Когда дверь за ней закрылась, я снова почувствовала этот навязчивый позыв закурить. Или хотя бы выпить чашку крепкого, черного кофе. Потому что я знала: за этой “завтрашней” операцией будет стоять не просто продолжение медицинской и, возможно, семейной драмы, но и столкновение с чем-то гораздо большим, чем просто болезнь.
Часть 2. Между Надеждой и Отчаянием.
Мой кабинет, обычно тихая гавань порядка, казался сегодня полем боя. На столе валялись распечатки МРТ, анализы крови, испещренные цифрами, и протоколы осмотров, исчерченные моим подчерком. Но главной причиной внутреннего смятения был не этот физический беспорядок, а груз невысказанных предположений, что давили на меня с момента ухода Елены Яковлевны.
Ей предстояла операция, а мне — мучительное ожидание результатов, которое переносилось на несколько порядков тяжелее, чем само дежурство или работа в операционной.
Телефонный звонок вырвал меня из задумчивости. Голос в трубке был незнаком, но с первых слов я почему-то поняла, кто звонит.
— Елизавета Петровна? Меня зовут Андрей. Я сын Марковой Елены Яковлевны. Мама дала ваш номер, сказала, что вы единственный врач, который… действительно смотрит.
Его голос дрогнул на последнем слове, и я почувствовала затаенную боль. Это был голос человека, уставшего от медицинского равнодушия и бюрократии.
— Очень приятно, Андрей. Мы с вашей мамой действительно провели довольно продуктивный прием. Как она себя чувствует? Операция прошла успешно?
— Прошла успешно, да. — Вздох на другом конце провода. — То есть, все удалили, мама сейчас в реанимации. Но она просила… просила узнать у вас, по поводу глаза. Она сказала, что у вас есть какие-то… опасения.
Я глубоко вздохнула. Это был тот самый момент, когда нужно было решить: обрисовать ситуацию в общих чертах или говорить прямо, подготавливая почву для самого плохого. Мой профессиональный долг велел быть честной.
— Андрей, мне нужно будет с вами встретиться лично. Сейчас я не могу давать никаких конкретных заключений без гистологии. Но да, у меня есть предположения, которые мы должны обсудить. Когда вы сможете подъехать?
— Хоть сейчас! — Его голос наполнился тревогой. — Я буду через час.
Через час передо мной сидел высокий, немного сутулый мужчина лет сорока с небольшим, с такими же по-прежнему острыми и проницательными глазами, как у его матери, но сейчас наполненными усталостью и беспокойством. В его внешности проглядывали черты Елены Яковлевны, но с налетом какой-то мягкой интеллигентности.
— Итак, Елизавета Петровна, — начал он, нервно теребя кончики пальцев. — Что там с глазом? Мама ничего толком не объясняет, только нервничает.
Я положила перед ним пачку снимков МРТ.
— Андрей, видите это образование? — Я указала на серую тень, что пряталась за глазным яблоком. — Оно нехарактерно для обычной доброкачественной патологии. Мы имеем дело либо с самостоятельной опухолью, например, лимфомой, либо…
Я сделала паузу, тщательно подбирая слова.
— Либо это метастаз. Распространение… той самой опухоли груди, которую прооперировали.
Его лицо побледнело, а потом стало пепельно-серым.
— Метастаз… То есть, рак уже… распространился? Но онколог сказал, что это первая стадия, все удалено, прогноз хороший!
— Андрей, онкология — наука очень сложная. И “первая стадия” относится к первичному очагу. Вы прекрасно знаете, как быстро могут развиваться события. Когда я осматривала вашу маму, меня насторожило… как бы это сказать… необычное поведение этого образования. Большинство опухолей в глазнице приводят к выпячиванию глаза. Но здесь мы имеем дело с обратным эффектом — глазное яблоко «просело». И в специальной литературе я читала, что именно метастазы рака молочной железы могут так себя вести. Это редкость, но такое возможно.
Андрей молчал, уставившись в пол. Я видела, как в его глазах заметалась паника.
— Что теперь? — он поднял на меня взгляд, а в его глазах застыла мольба.
— Теперь нам нужна гистология. Образование расположено очень глубоко, и биопсия будет крайне сложной. Но без нее мы не сможем точно определить диагноз и, соответственно, лечение. Я уже связалась с хирургом-офтальмологом, профессором Смирновым, он один из немногих в стране, кто способен провести такую операцию.
Андрей кивнул. Его губы дрожали.
— Мама… она такая сильная. Всегда была. Переживала столько проблем в своей жизни, перестройку, смерть отца. Я думал, что уж она-то непобедима.
— Это очень сложно, Андрей. Для любого человека. Но ваша мама действительно очень сильная. И ей сейчас как никогда нужна ваша поддержка.
Профессор Смирнов, лысоватый, но невероятно энергичный мужчина, подтвердил мои опасения. Биопсия была проведена. Результат пришел через неделю, которая показалась мне вечностью.
— Елизавета Петровна, — голос Андрея в трубке был глухим, — маму перевели из реанимации в палату. Она очень просит вас подойти к ней. Я ей кое-что сказал…
Я предчувствовала этот разговор. Сердце колотилось, когда я шла по коридорам больницы.
Елена Яковлевна лежала в отдельной палате. Ее всегда безупречные волосы были растрепаны, а лицо, обычно подтянутое, осунулось и было серым. Рядом с ней сидел Андрей, держа ее за руку. В углу сидела молодая женщина, тихо плакала — это была, видимо, жена Андрея.
— Елизавета Петровна, — голос Елены Яковлевны был слабым, но в нем прорезались стальные нотки. — Андрей мне сказал. Не все, но… достаточно. Так что там с моим глазом?
Я подошла к кровати.
— Елена Яковлевна, результаты биопсии… подтвердили наши самые тяжелые предположения. Это метастаз.
Она закрыла глаза, глубоко вдохнула. Наступила леденящая тишина. В этой тишине отчетливо был слышен всхлип Светланы.
— Значит, это конец, да? — ее голос был едва слышен.
— Нет! — Я категорически покачала головой. — Нет, Елена Яковлевна. Это не конец. Это… начало нового этапа борьбы. Метастатический рак — это не приговор, это серьезное заболевание, которое требует комплексного, порой агрессивного лечения. Химиотерапия, лучевая терапия. Есть новые методы, таргетная терапия, иммунотерапия. Мы будем бороться.
Она открыла глаза. Взгляд был тусклым, но в нем промелькнула искорка.
— Бороться… Я так устала бороться. Всю жизнь. И вот сейчас… опять!
Андрей сжал ее руку.
— Мама, ты не одна. Мы будем бороться вместе. Я, Света… все. Мы тебя любим.
В палате повисла пауза. Я посмотрела на Андрея и Светлану. В их глазах была растерянность, но и непоколебимая решимость. Это было то, что ей нужно. Любовь семьи — мощнейшее оружие в войне с болезнью.
Часть 3. Противостояние и хрупкий мир.
Началась битва.
Елена Яковлевна, несмотря на все боли и слабость после операции, согласилась на агрессивную химиотерапию. Она теряла волосы, ее тошнило, она слабела с каждым днем. Но ее характер — та самая воля, которая привела ее на вершину карьеры, — не давала ей сдаться.
Каждый день Андрей и Светлана были рядом. Он читал ей книги, рассказывал новости, делился воспоминаниями.
Света приносила домашнюю еду, поддерживала ее, когда ей было особенно плохо.
Я видела, как их любовь окутывала Елену Яковлевну теплым, невидимым щитом.
Однажды, во время очередного обхода, я застала их за неожиданным занятием. Андрей читал ей вслух… любовный роман, а Светлана аккуратно расчесывала тонкие, очень редкие волосы Елены Яковлевны.
— Что это вы тут устроили? — я улыбнулась этой «картине маслом».
Елена Яковлевна слабо улыбнулась в ответ.
— Вот видите, доктор! Андрей, он женат, а читает мне про какую-то Жозефину и ее Наполеона. Какой он у меня романтик.
Андрей покраснел.
— Мам, это моя работа! Ты же знаешь, я стал писать сценарии. Это для нового проекта.
— Сценарии? — Я действительно не знала, чем занимается её сын.
— Да, — кивнул Андрей. — После того, как меня уволили несколько лет назад из банка, я решил попробовать себя в творчестве. Всегда любил писать. Не знал, что скажу маме. Но сейчас… сейчас кажется, это неважно.
Елена Яковлевна посмотрела на сына с какой-то нежностью и грустью.
— Неважно… Как же неважно? Всегда важно идти за своей мечтой. Только я… я так долго… все решала за тебя.
Именно в этот момент я увидела в ней не высокопоставленную чиновницу Министерства культуры, а любящую мать, которая, возможно, слишком сильно опекала своего сына, пытаясь строить его жизнь по своим меркам. А он, оказывается, тайно мечтал о творчестве.
— Мама, — Андрей обнял ее. — Я не жалею ни о чем. Я просто хочу, чтобы ты была рядом.
— Буду, сынок, — прошептала она, и впервые за долгое время в ее глазах блеснули слезы. — Буду.
Прошло еще несколько месяцев.
Химиотерапия давала о себе знать, но и приносила результаты.
Опухоль в глазнице, хоть и не исчезла полностью, значительно уменьшилась. Состояние Елены Яковлевны стабилизировалось. Она окрепла, начала вставать, гулять по больничному саду. Ее глаза, хотя и оставались немного “впавшими”, снова обрели живой блеск.
Однажды, во время плановой консультации, она спросила меня:
— Елизавета Петровна, скажите, а что дальше? Я… я не хочу просто ждать.
— Дальше — жизнь, Елена Яковлевна, — ответила я, глядя в ее глаза. — Жизнь с осторожностью, с регулярными обследованиями, но жизнь. У вас есть сын, у вас есть внуки?
— Внучка у меня, Елизавета Петровна. Дочка Андрея. Она маленькая еще, но такая смышленая. Хочу ее на дачу свозить. Хочу, чтобы Андрей дописал свой сценарий. И хочу съездить в Венецию — я всегда мечтала.
Я улыбнулась. В ее словах звучала надежда. Надежда, которая, как ни странно, очень часто оказывается самым эффективным лекарством.
— Отлично, — сказала я. — Значит, так и сделаем. Будем следить за вашим здоровьем, а вы — за своей мечтой.
Когда она ушла, я снова почувствовала потребность закурить.
Но вместо этого, я просто глубоко вдохнула. На этот раз это не было от отчаяния или усталости. Это было от ощущения хрупкой, но осязаемой победы. Победы не только медицины, но и человеческого духа.
Я знала, что болезнь может вернуться. Знала, что каждый день для Елены Яковлевны теперь будет подарком. Но я также знала, что она встретит его с высоко поднятой головой, окруженная заботой и любовью своей семьи, и что самое главное — она снова нашла силы мечтать.
А это в моей профессии — высшая награда. Иногда самые страшные диагнозы открывают глаза на самые важные вещи. Открывают занавес на то, что действительно имеет для нас значение.
Пояснения:
* ЭНМГ – электронейромиография – современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы. Обследование дает возможность обнаружения не только функциональных и органических патологий нервной системы. Диагностика проводится и в урологической, хирургической, акушерской и офтальмологической практиках. Процедура электронейромиографии заключается в воздействии низкоинтенсивных электрических импульсов и фиксации ответной реакции специальным оборудованием.
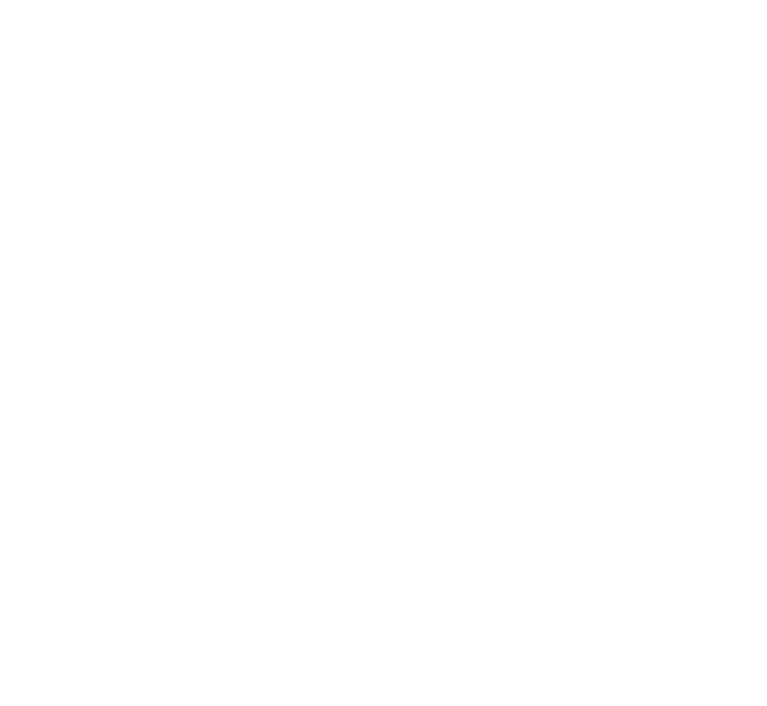
Ценный кадр. История одной любви.
Аннотация:
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Крушение.
Моя жизнь, казалось, была расписана по секундам. Учеба в медколледже, подработки, планы на будущее.
Я всегда стремилась к идеалу, верила в поговорку, что «в здоровом теле – здоровый дух», и что только от себя зависит, какая у тебя будет судьба. Но кто же знал, что однажды меня выкинет из этой круговерти с такой силой, что я окажусь на обочине, словно незнакомая мне одинокая пылинка. Закон физики, говоришь? Ну-ну.
Тот день обещал быть для меня одним из самых счастливых.
Я, Сафарина Алина, 21 год, поехала сегодня в центр города, в огромный бизнес-центр с зеркальными фасадами. Там меня ждал мой первый трудовой договор. Работа, о которой я мечтала с детства – инструктор по плаванию! Я обожала воду, чувствовала себя в ней как дома. И когда меня почти взяли – это было невероятно.
Мы с моей лучшей подругой Катей сидели в небольшом переговорном кабинете. Катя, как всегда, пришла поддержать меня.
— Алинка, ты лучшая! У тебя все получится! — шептала она, пока я слушала менеджера.
Он уже почти закончил, описывая мои обязанности, график, зарплату. Я уже видела себя в синем спортивном костюме и кипельно-белой футболке-поло, стоящей у кромки бассейна, объясняющей детям, как правильно дышать, чтобы научиться плавать.
И тут… Внезапно все поплыло. Сначала картинка, потом звуки. Голос менеджера стал глухим и далеким, словно я нырнула глубоко под воду. Я попыталась сфокусироваться, но мир закружился, как в карусели, набирающей бешеное ускорение. Я почувствовала резкую боль в затылке, как будто что-то горячее ударило меня изнутри. Потом – вакуум. Черная дыра.
Очнулась я на полу. В проходе между столами. Мое сознание пробивалось сквозь плотный туман, словно пыталось выбраться на поверхность. Я слышала громкие, испуганные голоса. Чувствовала, как чья-то рука держит мою голову, и куртка, прикрывающая меня, пахла Катей.
— Господи, Алиночка! Алинка, ты как?! — Катин голос, непривычно звонкий и тревожный.
«А кто это?» — пронеслось в моей голове, и тут же я поняла: «Я Алина. Я Алина».
Надо мной склонилось два лица. Один мужчина – крупный, с седыми усами, другой – молодой, с серьезным, проницательным взглядом. Они что-то говорили, что-то делали. Я чувствовала укол в вену, потом легкое головокружение, и туман начал медленно рассеиваться.
— Алина, как себя чувствуешь? — спросил молодой фельдшер. Его голос был спокойным, но от этой спокойствие почему-то становилось еще страшнее.
— Нормально… — ответила я, пытаясь потереть глаза. — Что случилось?
— Потеряла сознание. Упала. Очнулась. Без гипса, правда, но и хорошо, что без гипса. Представляешь, если бы где-то на крыше здания гуляла бы? — Он попытался пошутить, но шутка прозвучала жутковато, учитывая, что я до сих пор не понимала, что произошло.
— Эмм… Не гуляю по крышам зданий… — я попыталась улыбнуться.
— И слава богу. Поехали в больницу.
— Хорошо.
Меня бережно переложили на носилки. Катя все время была рядом, держала меня за руку.
— Алинка… ты сказала, что тебя взяли. Это же был твой первый трудовой договор… — ее голос звучал сдавленно.
Я помнила. И тут же меня накрыла волна отчаяния от того, что все может быть разрушено в один миг.
В машине «скорой помощи», под монотонный звук двигателя, Катя, словно исповедуясь, рассказывала медикам:
— Мы катались на роликах в парке, пару месяцев назад. И Алина… упала. Ударилась затылком об асфальт. Сознание тогда ненадолго потеряла, но потом отошла, сказала, что все в порядке. Мы не стали тогда вызывать «скорую», она не хотела обращаться к врачам.
А я в это время? Я чувствовала себя маленькой, глупой девочкой, пойманной на месте преступления.
— И что потом? — спросил фельдшер, которого я мельком видела в офисе. Тот, что постарше.
— Примерно раз в неделю у нее стали случаться такие… странные приступы. Ее трясло немного, секунд тридцать, но сознания она не теряла. И голова сильно болела. Она всем говорила, что это от усталости, только мне призналась. Надеялась, что само пройдет со временем.
Катя покачала головой, а я отвернулась, не в силах сдержать своё разочарование.
— Алина, — обратился ко мне молодой фельдшер. — Почему же ты до сих пор не обследовалась? Если ты сама почти медик!
Я вздрогнула.
— Я… боялась. Если в колледже узнают, меня отчислят! Я же на третьем курсе, “сестринское дело”. Я не смогу работать по профессии, ради которой столько лет училась. Я не имею права потерять это все! У меня не останется никакого будущего! — слезы навернулись на глаза, и я впервые за сегодняшний день почувствовала, как отчаяние душит меня.
— Очень странные у тебя взгляды, Алина, — сказал второй фельдшер, Игорь Степанович, как его называл молодой коллега. Он, как мне потом стало известно, был не из сентиментальных. — Не слышал, чтобы из-за такого диагноза выгоняли из учебных заведений. Кроме того, эпилепсия у тебя еще не выставлена официально. Возможно, и не будет выставлена. Если будешь соблюдать лечение, конечно.
Молодой фельдшер, имя которого, я как-то не запомнила, принялся читать мне настоящую лекцию, от которой у меня волосы вставали дыбом.
— Алина, ты понимаешь, что рискуешь не просто будущим, а жизнью? Черепно-мозговая травма с потерей сознания – это уже серьезно. А повторяющиеся судороги без лечения могут привести к устойчивой эпилепсии. Ты знаешь, что такое статусный приступ? Это когда приступы следуют один за другим, без прояснения сознания, и это может закончиться летальным исходом. Стойкое повреждение мозга, необратимые изменения, которые потом уже ничем не исправишь! Ты обязана пройти полноценное обследование: МРТ головного мозга, ЭЭГ, консультация невролога. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше!
Я кивнула.
Бледная и напуганная, но решимость в его голосе, его искренняя тревога пробили мою оборону. Я впервые за долгое время почувствовала, что меня вроде и не ругают, а спасают.
— Хорошо. Я поняла. Я обещаю. Я все сделаю.
— А скажи, Алина, куда ты так успешно почти устроилась? Офисная работа? А почему тогда Катя говорила про “моральную поддержку” на собеседовании? — спросил он же, и я снова улыбнулась, вспоминая свою мечту.
— Инструктором в бассейн! В фитнес-центр! У меня КМС по плаванию, есть специальная корочка, я давно ее получила. Мне очень нравится вода, и работать с людьми. А если это все вместе, это же так здорово, правда?
Его лицо тут же изменилось. Улыбка исчезла, глаза потемнели. Он посмотрел на меня с каким-то ужасом.
— Алина, тебе ни в коем случае нельзя работать инструктором в бассейне. На время, пока ты не пройдешь обследование и не получишь заключение невролога. Даже если это не эпилепсия, а, скажем, последствия травмы, любой приступ в воде… Ты просто утонешь. И никто ничего не поймет.
Улыбка сползла с моего лица. Он только что растоптал мою мечту в пыль.
— Я… не подумала об этом, — прошептала я, чувствуя, как мир вокруг меня снова начинает рушиться.
К этому времени мы уже доехали. Меня доставили в приемное отделение. Я чувствовала себя такой беспомощной, такой маленькой. И его слова – слова об утонувшем инструкторе – эхом отдавались в голове.
Это был конец моей мечте!...
Глаза Косатки.
Следующий день в отделении неврологии был похож на сон. Или на кошмар.
Меня положили в палату, я оказалась окружена незнакомыми больничными запахами и звуками. Начались обследования. Сдача анализов. Я чувствовала себя лабораторной мышью.
Утром ко мне в палату зашел врач. Молодой, высокий, с глубокими, проницательными карими глазами. Он не был похож на тех, вчерашних, кто вычитывал мне про ужасные последствия моей травмы. У этого взгляд был мягче, голос – бархатнее. Он был как косатка, мощный, но при этом спокойный и разумный.
— Доброе утро, Алина. Я Дмитрий Андреевич Смирнов, ваш лечащий врач, – он чуть улыбнулся. — Пока мы с вами, надеюсь, на короткое время. Итак, … вы медик?
Он улыбнулся, и эта улыбка была такой обезоруживающей, что мое недовольство тут же испарилось.
— Третий курс медколледжа?
— Да, Дмитрий Андреевич. — “Сестринское дело”.
— Прекрасно. Значит, вы понимаете, что наш план обследования будет достаточно обширным. Начнём как обычно, с рутинных анализов крови – биохимия, общий анализ, электролиты. Затем обязательно МРТ головного мозга, с контрастом, чтобы исключить любые структурные изменения, опухоли, аневризмы, последствия сосудистых катастроф, пусть даже микроскопических. А затем – ЭЭГ. Электроэнцефалограмма. Нам нужно посмотреть на электрическую активность вашего мозга. Возможно, понадобится ночной видео-ЭЭГ мониторинг, чтобы поймать те самые „небольшие“ судороги, о которых вы рассказывали.
Я кивнула. Хотелось спрятаться под одеяло.
— Все ли вам понятно? — его глаза внимательно смотрели на меня, и в их глубине я видела не просто профессиональный взгляд врача, а какое-то неподдельное участие.
— Да. Но… если диагноз подтвердится… я ведь не смогу работать по специальности, да? — я все-таки рискнула задать свой главный вопрос.
Дмитрий Андреевич присел на край моей кровати. Его близость почему-то успокаивала.
— Алина, давайте не будем бежать впереди паровоза. Во-первых, эпилепсия – это не приговор. Это заболевание, которое при адекватном лечении позволяет человеку вести абсолютно полноценную жизнь. Множество профессий для вас будут открыты. Во-вторых, даже если диагноз будет выставлен, существует масса препаратов, которые позволяют купировать приступы. И в-третьих, если вы оканчиваете медколледж, вы можете, например, стать администратором в клинике, заниматься документацией, работать в лаборатории… Где угодно. Нельзя сдаваться раньше времени.
Его слова были как спасательный круг. Он не ругал меня за то, что я скрывала свою болезнь, не пугал ужасами. Он просто давал хоть призрачную, но надежду.
— А что по поводу бассейна? — я набралась смелости.
Дмитрий Андреевич задумался.
— Приступы в воде – это крайне опасно. Пока, Алина, я не могу дать вам разрешения работать инструктором. Возможно, когда будет поставлен диагноз, это будет действительно эпилепсия, если мы достигнем стойкой ремиссии и вы будете стабильно принимать препараты, этот вопрос можно будет пересмотреть. Но пока – категорическое нет. Ваша жизнь важнее любой работы.
Даже это «нет» прозвучало так убедительно, так… заботливо, что я не посмела спорить.
Дни в больнице тянулись. Обследования следовали одно за другим.
Катя часто приходила, приносила журналы, конфеты, но я ждала его. Дмитрия Андреевича. Он заходил каждый день, всегда находя время не только для медицинских вопросов, но и для короткого, теплого слова. Однажды он принес мне книгу. Исторический роман.
— Алина, я заметил, вы много читаете. Это мой любимый автор. Может быть, отвлечет? — Он положил книгу на тумбочку.
Я чувствовала, как краснею, а сердце радостно забилось.
МРТ не выявило никаких страшных опухолей или аневризм. Ишемических очагов, говорящих о микроинсультах, тоже не было. Единственное, что показало сканирование — небольшие, почти незаметные очаги глиоза в затылочной доле.
— Это последствия травмы, Алина. Следы старого ушиба, — пояснил Дмитрий Андреевич, показывая мне снимок на экране. —А вот ЭЭГ…
Он развернул передо мной длинную ленту с замысловатыми волнами.
— «Здесь мы видим измененную фоновую активность и периодические разряды эпилептиформной активности в височно-затылочных отделах. Это подтверждает, что приступы связаны с дисфункцией мозга, спровоцированной травмой.
— Значит… всё-таки эпилепсия? — шепотом спросила я.
Дмитрий Андреевич посмотрел на меня спокойно.
— Мы ставим диагноз “Симптоматическая фокальная эпилепсия, ассоциированная с травматическим повреждением мозга”. Но это не приговор, Алина. Это диагноз, который поддается лечению.
Он назначил мне антиконвульсанты, тщательно объяснив, как принимать, какие могут быть побочные эффекты. Я начала принимать таблетки, и в моей душе боролись два чувства – облегчение от ясности и горечь от осознания новой реальности.
Цветок в офисе «скорой».
Меня выписали через неделю. С ворохом инструкций, рецептов и клятвенным обещанием регулярно посещать невролога. Мой лечащий врач, Дмитрий Андреевич, лично проводил меня до дверей отделения.
— Алина, я верю, что вы справитесь. Главное – верить в себя и строго следовать рекомендациям.
Его глаза так тепло смотрели на меня.
— Дмитрий Андреевич… спасибо вам за все. За все, что вы для меня сделали, — я протянула ему руку, и он пожал ее, его прикосновение было мягким, но твердым.
— Увидимся, Алина. Через месяц на контрольный осмотр.
Я вышла из больницы и глубоко вдохнула свежий, морозный воздух. Катя ждала меня у входа. Она обняла меня так крепко, что, казалось, хотела вобрать в себя все мои страхи.
— Ну что, Алинка? Свобода?
— Свобода… с таблетками», — я усмехнулась. —И без бассейна.
Я вернулась к учебе. Таблетки сначала давались тяжело – сонливость, легкая заторможенность. Но через пару недель организм привык. Приступов не было. Совсем не было. Я начала чувствовать себя почти нормальной. Ключевое слово «почти».
Самым сложным было смириться с потерянной мечтой. Работать инструктором в бассейне… Я по-прежнему хотела чувствовать воду, ее прохладу, ее силу. И теперь это было для меня под запретом.
Через месяц я пришла к Дмитрию Андреевичу на контрольный осмотр. Он встретил меня с улыбкой.
— Алина, прекрасно выглядите. Как себя чувствуете?
— Отлично, Дмитрий Андреевич. Приступов нет.
Он внимательно осмотрел меня, задал массу вопросов, проверил рефлексы.
— Все идет хорошо. Продолжаем лечение. На следующей неделе повторное ЭЭГ.
На обратном пути из больницы, проходя мимо здания «скорой помощи», я вдруг увидела его. Того молодого фельдшера, который читал мне лекцию, когда меня везли в больницу. Он как раз выходил из неприметной двери, крепко держа в руке чашку с кофе, и разговаривал по телефону. Высокий, с растрепанными темно-русыми волосами и такими же проницательными, как и тогда, глазами. Глазами, которые тогда видели во мне не просто пациентку, а кого-то, кто вот-вот разрушит свою жизнь.
Он закончил разговор и поднял голову. Наши взгляды встретились. Я-то узнала его сразу ещё издалека. И, похоже, он тоже.
— Алина? Привет. Как ты? – он подошел ближе, и я вдруг почувствовала себя неловко.
— Здравствуйте… Вы… Кирилл, кажется? – я наконец вспомнила его имя. – Все хорошо. Я только что от врача. Контрольный осмотр.
— Врача? У Смирнова? – он улыбнулся. – Ну, конечно. И что сказал? Приступов нет?
— Нет. И, надеюсь, не будет. Я принимаю все лекарства.
— И это правильно, – он кивнул. – А, скажи, ты… все еще хочешь работать инструктором в бассейне?
В его голосе прозвучало нечто, похожее на тревогу.
Я вздохнула.
— Очень хочу. Но Дмитрий Андреевич сказал… Категорическое «нет». Моя «жизнь важнее любой работы». — процитировала я лечащего врача.
И посмотрела на Кирилла.
— Вы тогда были правы. Сказали все жестко, но очень честно. Я тогда злилась, но теперь… я вам благодарна.
Кирилл удивленно поднял бровь.
— Правда? А я думал, ты меня возненавидела.
Он улыбнулся, и его улыбка оказалась совершенно очаровательной.
— А давай начнём наше знакомство заново! Я… Кирилл. И давай на «ты».
— Хорошо. Алина.
Мы стояли так несколько секунд, а потом я протянула ему пакет из рук. Там были булочки с маком.
— Это для тебя и коллеги-напарника. За спасение.
— Ого! Спасибо, Алина. Передам Игорю Степановичу. Он такое любит.
Кирилл посмотрел на меня с каким-то новым интересом.
— Слушай, а ты сейчас куда направляешься? Если не торопишься, может, выпьем кофе? Я как раз закончил с документами.
Я помедлила. Сердце почему-то заколотилось.
— Кофе? Ну… почему бы и нет.
Так началось наше первое свидание. В маленькой, уютной кофейне за углом. Мы говорили обо всем: о медицине, о книгах, о его сумасшедшей работе, о моих планах. Я узнала, что Кирилл – человек увлеченный. Он коллекционировал старые медицинские книги, обожал альпинизм и мечтал однажды пройти маршрут в Гималаях. А еще он… просто слушал. Внимательно, не перебивая, не оценивая.
Мы начали встречаться.
Наши свидания были спонтанными, под стать его рабочему графику. То он звонил:
— Алина, я свободен! У меня полчаса. Может, встретимся у больницы, я тебе кофе принесу?
То я ждала его, как Хатико, возле подстанции, зная, что, возможно, он задержится на вызове.
В этих встречах была какая-то особая, остросюжетная романтика.
Он знал о моей болезни. Понимал, как никто другой. Никогда не напоминал мне о ней, но всегда был рядом, словно невидимая страховка. Он был моей опорой, когда накатывали страхи.
— А если снова приступ? – шептала я ему однажды ночью, лежа у него на груди.
— Я рядом. Я всегда буду рядом. Я знаю, что делать, – его голос был тихим, уверенным, и мне становилось спокойнее.
Отражение.
Дмитрий Андреевич, мой невролог, был доволен. Через год после начала лечения, моя жизнь вошла в уже привычную колею. Приступов не было. Совсем. ЭЭГ показывало почти нормальную активность.
— Алина, – сказал он мне, глядя в результаты обследований. – Динамика отличная. Мы можем рассмотреть возможность снижения дозировки препаратов. Но… с осторожностью.
— А бассейн? – спросила я, и сама удивилась прозвучавшей в моем голосе надежде.
Дмитрий Андреевич улыбнулся.
— Бассейн… Алина, пока я не могу отменить то свое категорическое “нет”. Риск все еще слишком высок. Но вы – медсестра. Вас ждут в любой клинике. Вы можете приносить огромную пользу, не рискуя своей жизнью.
Я понимала. И все же… в душе больно отзывалось. Вода была частью меня.
Кирилл поддерживал меня во всем. Он видел мою боль, но не давил. Он просто был. Однажды он принес мне книгу – атлас морских животных.
— Помнишь, я говорил, что ты – как дельфин. Умная, грациозная. Но пока тебе нельзя нырять слишком глубоко.
Я улыбнулась. Его сравнения всегда были такими… неожиданными и точными.
Наш роман развивался стремительно, как горная река, по которой Кирилл любил ходить в походы. Его работа, полная экстрима и риска, делала наши встречи еще более ценными.
Наши будни были далеки от бытовой рутины. Мы жили, словно в вечном приключении, где каждое свидание было маленькой победой над расстоянием и временем.
Однажды Кирилл вернулся из особо тяжелого дежурства. Он был вымотан, но его глаза горели.
— Алина, я сегодня… такую спасательную операцию провел. Человек висел на балконе восьмого этажа. Я его страховал, пока пожарные ехали. И знаешь, что я подумал? Что в жизни есть вещи, где приходится рисковать. И если ты знаешь, как это делать, если ты обучен, подготовлен – это уже не безрассудство.
Я посмотрела на него. И в его словах увидела отражение своего главного страха и своей заветной мечты.
Ценный кадр.
Прошло почти два года.
Я давно закончила колледж с красным дипломом, Катя тоже, мои родители счастливы.
Сразу после учёбы я устроилась работать медсестрой в детскую поликлинику. Мне нравилось. Но иногда, по вечерам, я все еще мечтала о бассейне.
Наши отношения с Кириллом крепли. Мы жили вместе, делили радости и горести. Он стал моей семьей.
Однажды утром, проснувшись, я обнаружила, что Кирилла нет рядом. Зато на тумбочке лежала записка:
— Собирайся. Сегодня тебя ждет приключение.
И адрес.
По адресу оказался центр по обучению дайвингу. Я посмотрела на Кирилла, который ждал меня у входа, с легким недоумением.
— Кирилл, ты что задумал?
— Дмитрий Андреевич дал добро. После тщательного обследования и консультаций с другими специалистами… Ты, Алина, в стойкой ремиссии. И если ты так любишь воду… Но с одним условием.
— Каким? – мое сердце бешено колотилось.
— С инструктором. И с соблюдением всех правил безопасности. И… я буду твоим инструктором. Вторым. Неофициальным.
Он широко улыбнулся.
Так я вернулась в воду. Не в инструкторы по плаванию в бассейне, нет. Я стала обучаться дайвингу. Подводный мир оказался еще более захватывающим, чем я могла себе представить. Каждый раз, когда я погружалась под воду, я чувствовала себя свободной. И рядом всегда был Кирилл, мой личный “спасатель”.
Моя история не закончилась диагнозом. Она началась с него. И с тех пор, как меня выкинуло из привычной круговерти, я поняла, что нет ничего важнее здоровья – и любви. Любви, которая не испугалась диагноза, которая поддержала, спасла и помогла снова мечтать.
Самый ценный кадр моей жизни – это я, под водой, в окружении невероятной красоты, держащая за руку Кирилла. И я знала, что этот кадр будет не последним. Этот кадр – только начало. Потому что мой личный герой с глазами косатки всегда будет рядом, готовый вытащить меня из любой глубины, если вдруг я снова потеряю равновесие.
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Крушение.
Моя жизнь, казалось, была расписана по секундам. Учеба в медколледже, подработки, планы на будущее.
Я всегда стремилась к идеалу, верила в поговорку, что «в здоровом теле – здоровый дух», и что только от себя зависит, какая у тебя будет судьба. Но кто же знал, что однажды меня выкинет из этой круговерти с такой силой, что я окажусь на обочине, словно незнакомая мне одинокая пылинка. Закон физики, говоришь? Ну-ну.
Тот день обещал быть для меня одним из самых счастливых.
Я, Сафарина Алина, 21 год, поехала сегодня в центр города, в огромный бизнес-центр с зеркальными фасадами. Там меня ждал мой первый трудовой договор. Работа, о которой я мечтала с детства – инструктор по плаванию! Я обожала воду, чувствовала себя в ней как дома. И когда меня почти взяли – это было невероятно.
Мы с моей лучшей подругой Катей сидели в небольшом переговорном кабинете. Катя, как всегда, пришла поддержать меня.
— Алинка, ты лучшая! У тебя все получится! — шептала она, пока я слушала менеджера.
Он уже почти закончил, описывая мои обязанности, график, зарплату. Я уже видела себя в синем спортивном костюме и кипельно-белой футболке-поло, стоящей у кромки бассейна, объясняющей детям, как правильно дышать, чтобы научиться плавать.
И тут… Внезапно все поплыло. Сначала картинка, потом звуки. Голос менеджера стал глухим и далеким, словно я нырнула глубоко под воду. Я попыталась сфокусироваться, но мир закружился, как в карусели, набирающей бешеное ускорение. Я почувствовала резкую боль в затылке, как будто что-то горячее ударило меня изнутри. Потом – вакуум. Черная дыра.
Очнулась я на полу. В проходе между столами. Мое сознание пробивалось сквозь плотный туман, словно пыталось выбраться на поверхность. Я слышала громкие, испуганные голоса. Чувствовала, как чья-то рука держит мою голову, и куртка, прикрывающая меня, пахла Катей.
— Господи, Алиночка! Алинка, ты как?! — Катин голос, непривычно звонкий и тревожный.
«А кто это?» — пронеслось в моей голове, и тут же я поняла: «Я Алина. Я Алина».
Надо мной склонилось два лица. Один мужчина – крупный, с седыми усами, другой – молодой, с серьезным, проницательным взглядом. Они что-то говорили, что-то делали. Я чувствовала укол в вену, потом легкое головокружение, и туман начал медленно рассеиваться.
— Алина, как себя чувствуешь? — спросил молодой фельдшер. Его голос был спокойным, но от этой спокойствие почему-то становилось еще страшнее.
— Нормально… — ответила я, пытаясь потереть глаза. — Что случилось?
— Потеряла сознание. Упала. Очнулась. Без гипса, правда, но и хорошо, что без гипса. Представляешь, если бы где-то на крыше здания гуляла бы? — Он попытался пошутить, но шутка прозвучала жутковато, учитывая, что я до сих пор не понимала, что произошло.
— Эмм… Не гуляю по крышам зданий… — я попыталась улыбнуться.
— И слава богу. Поехали в больницу.
— Хорошо.
Меня бережно переложили на носилки. Катя все время была рядом, держала меня за руку.
— Алинка… ты сказала, что тебя взяли. Это же был твой первый трудовой договор… — ее голос звучал сдавленно.
Я помнила. И тут же меня накрыла волна отчаяния от того, что все может быть разрушено в один миг.
В машине «скорой помощи», под монотонный звук двигателя, Катя, словно исповедуясь, рассказывала медикам:
— Мы катались на роликах в парке, пару месяцев назад. И Алина… упала. Ударилась затылком об асфальт. Сознание тогда ненадолго потеряла, но потом отошла, сказала, что все в порядке. Мы не стали тогда вызывать «скорую», она не хотела обращаться к врачам.
А я в это время? Я чувствовала себя маленькой, глупой девочкой, пойманной на месте преступления.
— И что потом? — спросил фельдшер, которого я мельком видела в офисе. Тот, что постарше.
— Примерно раз в неделю у нее стали случаться такие… странные приступы. Ее трясло немного, секунд тридцать, но сознания она не теряла. И голова сильно болела. Она всем говорила, что это от усталости, только мне призналась. Надеялась, что само пройдет со временем.
Катя покачала головой, а я отвернулась, не в силах сдержать своё разочарование.
— Алина, — обратился ко мне молодой фельдшер. — Почему же ты до сих пор не обследовалась? Если ты сама почти медик!
Я вздрогнула.
— Я… боялась. Если в колледже узнают, меня отчислят! Я же на третьем курсе, “сестринское дело”. Я не смогу работать по профессии, ради которой столько лет училась. Я не имею права потерять это все! У меня не останется никакого будущего! — слезы навернулись на глаза, и я впервые за сегодняшний день почувствовала, как отчаяние душит меня.
— Очень странные у тебя взгляды, Алина, — сказал второй фельдшер, Игорь Степанович, как его называл молодой коллега. Он, как мне потом стало известно, был не из сентиментальных. — Не слышал, чтобы из-за такого диагноза выгоняли из учебных заведений. Кроме того, эпилепсия у тебя еще не выставлена официально. Возможно, и не будет выставлена. Если будешь соблюдать лечение, конечно.
Молодой фельдшер, имя которого, я как-то не запомнила, принялся читать мне настоящую лекцию, от которой у меня волосы вставали дыбом.
— Алина, ты понимаешь, что рискуешь не просто будущим, а жизнью? Черепно-мозговая травма с потерей сознания – это уже серьезно. А повторяющиеся судороги без лечения могут привести к устойчивой эпилепсии. Ты знаешь, что такое статусный приступ? Это когда приступы следуют один за другим, без прояснения сознания, и это может закончиться летальным исходом. Стойкое повреждение мозга, необратимые изменения, которые потом уже ничем не исправишь! Ты обязана пройти полноценное обследование: МРТ головного мозга, ЭЭГ, консультация невролога. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше!
Я кивнула.
Бледная и напуганная, но решимость в его голосе, его искренняя тревога пробили мою оборону. Я впервые за долгое время почувствовала, что меня вроде и не ругают, а спасают.
— Хорошо. Я поняла. Я обещаю. Я все сделаю.
— А скажи, Алина, куда ты так успешно почти устроилась? Офисная работа? А почему тогда Катя говорила про “моральную поддержку” на собеседовании? — спросил он же, и я снова улыбнулась, вспоминая свою мечту.
— Инструктором в бассейн! В фитнес-центр! У меня КМС по плаванию, есть специальная корочка, я давно ее получила. Мне очень нравится вода, и работать с людьми. А если это все вместе, это же так здорово, правда?
Его лицо тут же изменилось. Улыбка исчезла, глаза потемнели. Он посмотрел на меня с каким-то ужасом.
— Алина, тебе ни в коем случае нельзя работать инструктором в бассейне. На время, пока ты не пройдешь обследование и не получишь заключение невролога. Даже если это не эпилепсия, а, скажем, последствия травмы, любой приступ в воде… Ты просто утонешь. И никто ничего не поймет.
Улыбка сползла с моего лица. Он только что растоптал мою мечту в пыль.
— Я… не подумала об этом, — прошептала я, чувствуя, как мир вокруг меня снова начинает рушиться.
К этому времени мы уже доехали. Меня доставили в приемное отделение. Я чувствовала себя такой беспомощной, такой маленькой. И его слова – слова об утонувшем инструкторе – эхом отдавались в голове.
Это был конец моей мечте!...
Глаза Косатки.
Следующий день в отделении неврологии был похож на сон. Или на кошмар.
Меня положили в палату, я оказалась окружена незнакомыми больничными запахами и звуками. Начались обследования. Сдача анализов. Я чувствовала себя лабораторной мышью.
Утром ко мне в палату зашел врач. Молодой, высокий, с глубокими, проницательными карими глазами. Он не был похож на тех, вчерашних, кто вычитывал мне про ужасные последствия моей травмы. У этого взгляд был мягче, голос – бархатнее. Он был как косатка, мощный, но при этом спокойный и разумный.
— Доброе утро, Алина. Я Дмитрий Андреевич Смирнов, ваш лечащий врач, – он чуть улыбнулся. — Пока мы с вами, надеюсь, на короткое время. Итак, … вы медик?
Он улыбнулся, и эта улыбка была такой обезоруживающей, что мое недовольство тут же испарилось.
— Третий курс медколледжа?
— Да, Дмитрий Андреевич. — “Сестринское дело”.
— Прекрасно. Значит, вы понимаете, что наш план обследования будет достаточно обширным. Начнём как обычно, с рутинных анализов крови – биохимия, общий анализ, электролиты. Затем обязательно МРТ головного мозга, с контрастом, чтобы исключить любые структурные изменения, опухоли, аневризмы, последствия сосудистых катастроф, пусть даже микроскопических. А затем – ЭЭГ. Электроэнцефалограмма. Нам нужно посмотреть на электрическую активность вашего мозга. Возможно, понадобится ночной видео-ЭЭГ мониторинг, чтобы поймать те самые „небольшие“ судороги, о которых вы рассказывали.
Я кивнула. Хотелось спрятаться под одеяло.
— Все ли вам понятно? — его глаза внимательно смотрели на меня, и в их глубине я видела не просто профессиональный взгляд врача, а какое-то неподдельное участие.
— Да. Но… если диагноз подтвердится… я ведь не смогу работать по специальности, да? — я все-таки рискнула задать свой главный вопрос.
Дмитрий Андреевич присел на край моей кровати. Его близость почему-то успокаивала.
— Алина, давайте не будем бежать впереди паровоза. Во-первых, эпилепсия – это не приговор. Это заболевание, которое при адекватном лечении позволяет человеку вести абсолютно полноценную жизнь. Множество профессий для вас будут открыты. Во-вторых, даже если диагноз будет выставлен, существует масса препаратов, которые позволяют купировать приступы. И в-третьих, если вы оканчиваете медколледж, вы можете, например, стать администратором в клинике, заниматься документацией, работать в лаборатории… Где угодно. Нельзя сдаваться раньше времени.
Его слова были как спасательный круг. Он не ругал меня за то, что я скрывала свою болезнь, не пугал ужасами. Он просто давал хоть призрачную, но надежду.
— А что по поводу бассейна? — я набралась смелости.
Дмитрий Андреевич задумался.
— Приступы в воде – это крайне опасно. Пока, Алина, я не могу дать вам разрешения работать инструктором. Возможно, когда будет поставлен диагноз, это будет действительно эпилепсия, если мы достигнем стойкой ремиссии и вы будете стабильно принимать препараты, этот вопрос можно будет пересмотреть. Но пока – категорическое нет. Ваша жизнь важнее любой работы.
Даже это «нет» прозвучало так убедительно, так… заботливо, что я не посмела спорить.
Дни в больнице тянулись. Обследования следовали одно за другим.
Катя часто приходила, приносила журналы, конфеты, но я ждала его. Дмитрия Андреевича. Он заходил каждый день, всегда находя время не только для медицинских вопросов, но и для короткого, теплого слова. Однажды он принес мне книгу. Исторический роман.
— Алина, я заметил, вы много читаете. Это мой любимый автор. Может быть, отвлечет? — Он положил книгу на тумбочку.
Я чувствовала, как краснею, а сердце радостно забилось.
МРТ не выявило никаких страшных опухолей или аневризм. Ишемических очагов, говорящих о микроинсультах, тоже не было. Единственное, что показало сканирование — небольшие, почти незаметные очаги глиоза в затылочной доле.
— Это последствия травмы, Алина. Следы старого ушиба, — пояснил Дмитрий Андреевич, показывая мне снимок на экране. —А вот ЭЭГ…
Он развернул передо мной длинную ленту с замысловатыми волнами.
— «Здесь мы видим измененную фоновую активность и периодические разряды эпилептиформной активности в височно-затылочных отделах. Это подтверждает, что приступы связаны с дисфункцией мозга, спровоцированной травмой.
— Значит… всё-таки эпилепсия? — шепотом спросила я.
Дмитрий Андреевич посмотрел на меня спокойно.
— Мы ставим диагноз “Симптоматическая фокальная эпилепсия, ассоциированная с травматическим повреждением мозга”. Но это не приговор, Алина. Это диагноз, который поддается лечению.
Он назначил мне антиконвульсанты, тщательно объяснив, как принимать, какие могут быть побочные эффекты. Я начала принимать таблетки, и в моей душе боролись два чувства – облегчение от ясности и горечь от осознания новой реальности.
Цветок в офисе «скорой».
Меня выписали через неделю. С ворохом инструкций, рецептов и клятвенным обещанием регулярно посещать невролога. Мой лечащий врач, Дмитрий Андреевич, лично проводил меня до дверей отделения.
— Алина, я верю, что вы справитесь. Главное – верить в себя и строго следовать рекомендациям.
Его глаза так тепло смотрели на меня.
— Дмитрий Андреевич… спасибо вам за все. За все, что вы для меня сделали, — я протянула ему руку, и он пожал ее, его прикосновение было мягким, но твердым.
— Увидимся, Алина. Через месяц на контрольный осмотр.
Я вышла из больницы и глубоко вдохнула свежий, морозный воздух. Катя ждала меня у входа. Она обняла меня так крепко, что, казалось, хотела вобрать в себя все мои страхи.
— Ну что, Алинка? Свобода?
— Свобода… с таблетками», — я усмехнулась. —И без бассейна.
Я вернулась к учебе. Таблетки сначала давались тяжело – сонливость, легкая заторможенность. Но через пару недель организм привык. Приступов не было. Совсем не было. Я начала чувствовать себя почти нормальной. Ключевое слово «почти».
Самым сложным было смириться с потерянной мечтой. Работать инструктором в бассейне… Я по-прежнему хотела чувствовать воду, ее прохладу, ее силу. И теперь это было для меня под запретом.
Через месяц я пришла к Дмитрию Андреевичу на контрольный осмотр. Он встретил меня с улыбкой.
— Алина, прекрасно выглядите. Как себя чувствуете?
— Отлично, Дмитрий Андреевич. Приступов нет.
Он внимательно осмотрел меня, задал массу вопросов, проверил рефлексы.
— Все идет хорошо. Продолжаем лечение. На следующей неделе повторное ЭЭГ.
На обратном пути из больницы, проходя мимо здания «скорой помощи», я вдруг увидела его. Того молодого фельдшера, который читал мне лекцию, когда меня везли в больницу. Он как раз выходил из неприметной двери, крепко держа в руке чашку с кофе, и разговаривал по телефону. Высокий, с растрепанными темно-русыми волосами и такими же проницательными, как и тогда, глазами. Глазами, которые тогда видели во мне не просто пациентку, а кого-то, кто вот-вот разрушит свою жизнь.
Он закончил разговор и поднял голову. Наши взгляды встретились. Я-то узнала его сразу ещё издалека. И, похоже, он тоже.
— Алина? Привет. Как ты? – он подошел ближе, и я вдруг почувствовала себя неловко.
— Здравствуйте… Вы… Кирилл, кажется? – я наконец вспомнила его имя. – Все хорошо. Я только что от врача. Контрольный осмотр.
— Врача? У Смирнова? – он улыбнулся. – Ну, конечно. И что сказал? Приступов нет?
— Нет. И, надеюсь, не будет. Я принимаю все лекарства.
— И это правильно, – он кивнул. – А, скажи, ты… все еще хочешь работать инструктором в бассейне?
В его голосе прозвучало нечто, похожее на тревогу.
Я вздохнула.
— Очень хочу. Но Дмитрий Андреевич сказал… Категорическое «нет». Моя «жизнь важнее любой работы». — процитировала я лечащего врача.
И посмотрела на Кирилла.
— Вы тогда были правы. Сказали все жестко, но очень честно. Я тогда злилась, но теперь… я вам благодарна.
Кирилл удивленно поднял бровь.
— Правда? А я думал, ты меня возненавидела.
Он улыбнулся, и его улыбка оказалась совершенно очаровательной.
— А давай начнём наше знакомство заново! Я… Кирилл. И давай на «ты».
— Хорошо. Алина.
Мы стояли так несколько секунд, а потом я протянула ему пакет из рук. Там были булочки с маком.
— Это для тебя и коллеги-напарника. За спасение.
— Ого! Спасибо, Алина. Передам Игорю Степановичу. Он такое любит.
Кирилл посмотрел на меня с каким-то новым интересом.
— Слушай, а ты сейчас куда направляешься? Если не торопишься, может, выпьем кофе? Я как раз закончил с документами.
Я помедлила. Сердце почему-то заколотилось.
— Кофе? Ну… почему бы и нет.
Так началось наше первое свидание. В маленькой, уютной кофейне за углом. Мы говорили обо всем: о медицине, о книгах, о его сумасшедшей работе, о моих планах. Я узнала, что Кирилл – человек увлеченный. Он коллекционировал старые медицинские книги, обожал альпинизм и мечтал однажды пройти маршрут в Гималаях. А еще он… просто слушал. Внимательно, не перебивая, не оценивая.
Мы начали встречаться.
Наши свидания были спонтанными, под стать его рабочему графику. То он звонил:
— Алина, я свободен! У меня полчаса. Может, встретимся у больницы, я тебе кофе принесу?
То я ждала его, как Хатико, возле подстанции, зная, что, возможно, он задержится на вызове.
В этих встречах была какая-то особая, остросюжетная романтика.
Он знал о моей болезни. Понимал, как никто другой. Никогда не напоминал мне о ней, но всегда был рядом, словно невидимая страховка. Он был моей опорой, когда накатывали страхи.
— А если снова приступ? – шептала я ему однажды ночью, лежа у него на груди.
— Я рядом. Я всегда буду рядом. Я знаю, что делать, – его голос был тихим, уверенным, и мне становилось спокойнее.
Отражение.
Дмитрий Андреевич, мой невролог, был доволен. Через год после начала лечения, моя жизнь вошла в уже привычную колею. Приступов не было. Совсем. ЭЭГ показывало почти нормальную активность.
— Алина, – сказал он мне, глядя в результаты обследований. – Динамика отличная. Мы можем рассмотреть возможность снижения дозировки препаратов. Но… с осторожностью.
— А бассейн? – спросила я, и сама удивилась прозвучавшей в моем голосе надежде.
Дмитрий Андреевич улыбнулся.
— Бассейн… Алина, пока я не могу отменить то свое категорическое “нет”. Риск все еще слишком высок. Но вы – медсестра. Вас ждут в любой клинике. Вы можете приносить огромную пользу, не рискуя своей жизнью.
Я понимала. И все же… в душе больно отзывалось. Вода была частью меня.
Кирилл поддерживал меня во всем. Он видел мою боль, но не давил. Он просто был. Однажды он принес мне книгу – атлас морских животных.
— Помнишь, я говорил, что ты – как дельфин. Умная, грациозная. Но пока тебе нельзя нырять слишком глубоко.
Я улыбнулась. Его сравнения всегда были такими… неожиданными и точными.
Наш роман развивался стремительно, как горная река, по которой Кирилл любил ходить в походы. Его работа, полная экстрима и риска, делала наши встречи еще более ценными.
Наши будни были далеки от бытовой рутины. Мы жили, словно в вечном приключении, где каждое свидание было маленькой победой над расстоянием и временем.
Однажды Кирилл вернулся из особо тяжелого дежурства. Он был вымотан, но его глаза горели.
— Алина, я сегодня… такую спасательную операцию провел. Человек висел на балконе восьмого этажа. Я его страховал, пока пожарные ехали. И знаешь, что я подумал? Что в жизни есть вещи, где приходится рисковать. И если ты знаешь, как это делать, если ты обучен, подготовлен – это уже не безрассудство.
Я посмотрела на него. И в его словах увидела отражение своего главного страха и своей заветной мечты.
Ценный кадр.
Прошло почти два года.
Я давно закончила колледж с красным дипломом, Катя тоже, мои родители счастливы.
Сразу после учёбы я устроилась работать медсестрой в детскую поликлинику. Мне нравилось. Но иногда, по вечерам, я все еще мечтала о бассейне.
Наши отношения с Кириллом крепли. Мы жили вместе, делили радости и горести. Он стал моей семьей.
Однажды утром, проснувшись, я обнаружила, что Кирилла нет рядом. Зато на тумбочке лежала записка:
— Собирайся. Сегодня тебя ждет приключение.
И адрес.
По адресу оказался центр по обучению дайвингу. Я посмотрела на Кирилла, который ждал меня у входа, с легким недоумением.
— Кирилл, ты что задумал?
— Дмитрий Андреевич дал добро. После тщательного обследования и консультаций с другими специалистами… Ты, Алина, в стойкой ремиссии. И если ты так любишь воду… Но с одним условием.
— Каким? – мое сердце бешено колотилось.
— С инструктором. И с соблюдением всех правил безопасности. И… я буду твоим инструктором. Вторым. Неофициальным.
Он широко улыбнулся.
Так я вернулась в воду. Не в инструкторы по плаванию в бассейне, нет. Я стала обучаться дайвингу. Подводный мир оказался еще более захватывающим, чем я могла себе представить. Каждый раз, когда я погружалась под воду, я чувствовала себя свободной. И рядом всегда был Кирилл, мой личный “спасатель”.
Моя история не закончилась диагнозом. Она началась с него. И с тех пор, как меня выкинуло из привычной круговерти, я поняла, что нет ничего важнее здоровья – и любви. Любви, которая не испугалась диагноза, которая поддержала, спасла и помогла снова мечтать.
Самый ценный кадр моей жизни – это я, под водой, в окружении невероятной красоты, держащая за руку Кирилла. И я знала, что этот кадр будет не последним. Этот кадр – только начало. Потому что мой личный герой с глазами косатки всегда будет рядом, готовый вытащить меня из любой глубины, если вдруг я снова потеряю равновесие.
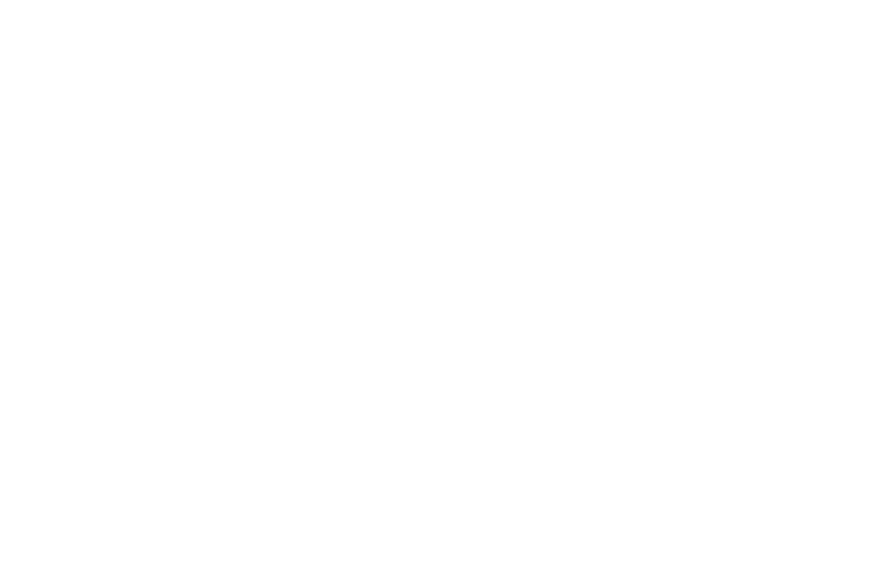
Цена спасения
Аннотация:
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Ледяной ветер бил в лицо, впивался под заплатанный ворот видавшей виды куртки. Андрей сжался, вглядываясь в свинцовую, неспокойную гладь Печоры.
За плечами шесть лет университета, полгода интернатуры, и вот он — земский врач в богом забытой ЦРБ*. Месяц, как началась его вахтенная каторга.
«Вахта» — слово красивое, но лживое. Скорее, выживание.
Ночь обнимала тишиной, которую лишь изредка прорезал тихий стон из детского отделения. Погруженный в ворох историй болезней, Андрей вздрогнул от пронзительного звонка телефона.
— Андрей Сергеевич? — встревоженный до дрожи голос Tатьяны Петровны, акушерки, бился в трубке. — У нас тут… экстренно. Роды на ФАПе** в Усть-Лыже. Тридцать недель, двойня. Там им не выжить…
Холод страха сковал Андрея. Тридцать недель! В ЦРБ — ни приличного кювеза***, ни аппарата ИВЛ для таких крох.
— Татьяна Петровна, вызывайте нашу «буханку», — попытался Андрей придать голосу уверенность, — я выезжаю навстречу.
— Андрей Сергеевич… — пауза, полная ужаса, — Печора подтаяла. «Буханка» туда не пройдет, риск — пятьдесят на пятьдесят, что провалится…
В голове Андрея вспыхнула яркая картина: искореженный металл, черная ледяная вода, уходящие на дно жизни. Нет, он не мог этого допустить.
— Мы с моей акушеркой выезжаем на нашей «буханке», — отрезал он, — вы из ФАПа — на своей. Встретимся посередине дороги. Так выиграем драгоценные минуты.
Он бросил трубку, чувствуя, как бешено стучит в висках кровь. Перед глазами стоял испуганный взгляд Татьяны Петровны.
«Сейчас важна скорость, а не обсуждение рисков», — как любил говорить его профессор.
Через двадцать минут, разрезая ночь светом фар, они с акушеркой Валентиной мчались по ухабистой трассе. Свет фар едва выхватывал из темноты край дороги. Валентина беззвучно шептала молитву. Встретились у реки. Две «буханки» стояли по разные стороны зловещей черной пасти.
Лед, предательский и коварный, хрустел под ногами. Андрей увидел широко раскрытые от ужаса глаза роженицы, лицо натянулось, словно барабан.
— Ася, давайте я помогу, — Андрей взял дрожащую женщину под руку, — все будет хорошо. Мы успеем.
Медленно, шаг за шагом, преодолели эти проклятые двадцать метров. В глазах Аси с каждым шагом расцветала сквозь боль схваток благодарность и робкая надежда.
В нашей машине «скорой помощи» нас ждала Валентина с наготове разложенным акушерским набором на всякий случай. Но мы даже успели доехать до больницы.
В первое же мгновение в родблоке ЦРБ Андрею стало ясно - время утекает сквозь пальцы стремительно.
Первой появилась на свет девочка, крохотная, сморщенная, словно старичок. Андрей бережно взял её на руки, обтёр, скомандовал Валентине готовить кювез. Второй ребёнок не торопился.
— Тазовое предлежание… — констатировала Валентина, — и родовая деятельность слабая…
Андрей понимал – без вмешательства не обойтись. Он никогда не делал ручное выделение плаценты, тем более в таких диких условиях. Сердце колотилось о рёбра, ладони покрылись липким потом.
«Соберись, тряпка! Ты – врач!» — мысленно приказал он себе.
Наконец, после мучительно долгого ожидания, родился мальчик. Не дышал. Короткая вспышка паники.
Андрей, не теряя ни секунды, начал отчаянную реанимацию: ИВЛ мешком Амбу****, непрямой массаж сердца. Снова и снова.
Лёгкие упорно не хотели раскрываться.
— Ну же, маленький, давай! — хрипло шептал Андрей, не отрывая взгляда от синеющего лица ребёнка.
И вот, долгожданный писк, первый жадный глоток воздуха. Малыш задышал.
Андрей выдохнул, словно выпустил из себя всё напряжение. Сделал назначения, побежал в детское отделение. Мгновенно осознал катастрофическую нехватку оборудования.
Ещё до получения анализов младенцa скрутили судороги. Таких Андрей не видел никогда. Ручки и ножки мальчика беспорядочно вздрагивали, на личике застыла гримаса первобытного ужаса.
«Чужой… долбанный Чужой…» — пронеслось в голове.
Анализы подтвердили худшие опасения: критически низкий уровень сахара и кальция. Срочно — глюкозу и кальция глюконат! Андрей судорожно вспоминал протоколы лечения, листал в памяти зачитанные до дыр страницы учебника реаниматологии. Чувствовал свою беспомощность.
Ночь тянулась, словно резиновая. Андрей обрывал телефоны, звонил наставнику в Архангельск, знакомым реаниматологам, всем, кто мог помочь консультацией. Ведь здесь, в этой глуши, неоткуда было ждать подмоги. Только ты сам.
Санитарка принесла чай и бутерброд. Андрей механически откусил кусок, но проглотить не смог. В голове билась одна и та же мысль:
«Что я ещё не предусмотрел? Как помочь?»
— Нам нужен вертолет из Архангельска, — поделился он мыслями с Валентиной.
— Уже вызвали, — ответила старшая акушерка, — но ждать часов семь…
Днём он отменил все плановые приёмы, оставил в поликлинике только экстренные случаи. Сказал водителям везти детей с мамами прямо к нему на приём прямо сюда, в ЦРБ.
Наконец прилетел вертолет.
Измученный, но живой младенец был оперативно доставлен в областную детскую больницу. Андрей, не дожидаясь смены, рухнул в общежитии, чтобы украсть хотя бы несколько часов сна. В Архангельске, потом, Андрей навещал ребёнка, выпрашивая у заведующего отделением несколько минут, чтобы просто взглянуть на малыша. Именно этот мальчик, Олег, как его назвали родители, преподал Андрею самый важный урок в его профессиональной жизни. Он научил его ответственности, бесстрашию, бескорыстности.
Взглянув однажды в зеркало, Андрей заметил свою первую седую прядь. Прошло семнадцать лет, ему уже сорок четыре.
Сейчас он, Андрей Николаевич, стал опытным реаниматологом-анестезиологом, получил множество почётных грамот, но тот мальчик, Олег, навсегда остался в его сердце.
Однажды декабрьским вечером, когда за окном выла метель, в кабинет Андрея вошел посетитель. Высокий, статный молодой парень с внимательными глазами.
— Андрей Сергеевич? — спросил он, протягивая руку. — Вы меня, конечно, не помните, но мама вас вспоминает часто до сих пор.
Андрей вгляделся в его лицо. Что-то смутно знакомое промелькнуло в чертах молодого человека, но память упорно молчала.
— Олег… Олег Соколов, мою маму зовут Ася Михайловна Соколова — произнес парень,— Вы спасли мне жизнь семнадцать лет назад, в Усть-Лыже.
Комната сразу словно наполнилась теплом. Андрей крепко пожал руку Олега. Перед ним стоял не тот крохотный, измученный младенец, а взрослый, уверенный в себе человек.
Олег рассказал, что вырос здоровым и крепким, закончил школу с отличием, сейчас учится в медицинском университете. Его мечта — стать врачом и помогать другим, как когда-то помог ему Андрей.
Разговор затянулся допоздна. Андрей и Олег говорили о медицине, о жизни, о долге. В этот вечер Андрей понял, что все его усилия, все бессонные ночи, весь страх и отчаяние были не напрасны. Он действительно изменил мир к лучшему, пусть даже для одного человека. И этот человек стоял сейчас перед ним, полный благодарности и решимости продолжить его дело.
Пояснения:
*ЦРБ – центральная районная больница
**ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
*** кювез (кувёз) - это устройство, которое обеспечивает контролируемую среду для младенцев, нуждающихся в особом уходе. Он представляет собой прозрачную камеру с регулируемой температурой, влажностью и уровнем кислорода. Кювез используется для защиты ребенка от внешних факторов, таких как инфекции, перепады температуры и шум, которые могут негативно сказаться на его здоровье.
Кювезы оснащены современными технологиями, которые позволяют медицинскому персоналу круглосуточно наблюдать за состоянием ребенка и при необходимости быстро реагировать на изменения.
****мешок Амбу - устройство для ручной вентиляции легких у взрослых пациентов и детей. Оборудование применяется экипажами скорой медицинской помощи.
Все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Ледяной ветер бил в лицо, впивался под заплатанный ворот видавшей виды куртки. Андрей сжался, вглядываясь в свинцовую, неспокойную гладь Печоры.
За плечами шесть лет университета, полгода интернатуры, и вот он — земский врач в богом забытой ЦРБ*. Месяц, как началась его вахтенная каторга.
«Вахта» — слово красивое, но лживое. Скорее, выживание.
Ночь обнимала тишиной, которую лишь изредка прорезал тихий стон из детского отделения. Погруженный в ворох историй болезней, Андрей вздрогнул от пронзительного звонка телефона.
— Андрей Сергеевич? — встревоженный до дрожи голос Tатьяны Петровны, акушерки, бился в трубке. — У нас тут… экстренно. Роды на ФАПе** в Усть-Лыже. Тридцать недель, двойня. Там им не выжить…
Холод страха сковал Андрея. Тридцать недель! В ЦРБ — ни приличного кювеза***, ни аппарата ИВЛ для таких крох.
— Татьяна Петровна, вызывайте нашу «буханку», — попытался Андрей придать голосу уверенность, — я выезжаю навстречу.
— Андрей Сергеевич… — пауза, полная ужаса, — Печора подтаяла. «Буханка» туда не пройдет, риск — пятьдесят на пятьдесят, что провалится…
В голове Андрея вспыхнула яркая картина: искореженный металл, черная ледяная вода, уходящие на дно жизни. Нет, он не мог этого допустить.
— Мы с моей акушеркой выезжаем на нашей «буханке», — отрезал он, — вы из ФАПа — на своей. Встретимся посередине дороги. Так выиграем драгоценные минуты.
Он бросил трубку, чувствуя, как бешено стучит в висках кровь. Перед глазами стоял испуганный взгляд Татьяны Петровны.
«Сейчас важна скорость, а не обсуждение рисков», — как любил говорить его профессор.
Через двадцать минут, разрезая ночь светом фар, они с акушеркой Валентиной мчались по ухабистой трассе. Свет фар едва выхватывал из темноты край дороги. Валентина беззвучно шептала молитву. Встретились у реки. Две «буханки» стояли по разные стороны зловещей черной пасти.
Лед, предательский и коварный, хрустел под ногами. Андрей увидел широко раскрытые от ужаса глаза роженицы, лицо натянулось, словно барабан.
— Ася, давайте я помогу, — Андрей взял дрожащую женщину под руку, — все будет хорошо. Мы успеем.
Медленно, шаг за шагом, преодолели эти проклятые двадцать метров. В глазах Аси с каждым шагом расцветала сквозь боль схваток благодарность и робкая надежда.
В нашей машине «скорой помощи» нас ждала Валентина с наготове разложенным акушерским набором на всякий случай. Но мы даже успели доехать до больницы.
В первое же мгновение в родблоке ЦРБ Андрею стало ясно - время утекает сквозь пальцы стремительно.
Первой появилась на свет девочка, крохотная, сморщенная, словно старичок. Андрей бережно взял её на руки, обтёр, скомандовал Валентине готовить кювез. Второй ребёнок не торопился.
— Тазовое предлежание… — констатировала Валентина, — и родовая деятельность слабая…
Андрей понимал – без вмешательства не обойтись. Он никогда не делал ручное выделение плаценты, тем более в таких диких условиях. Сердце колотилось о рёбра, ладони покрылись липким потом.
«Соберись, тряпка! Ты – врач!» — мысленно приказал он себе.
Наконец, после мучительно долгого ожидания, родился мальчик. Не дышал. Короткая вспышка паники.
Андрей, не теряя ни секунды, начал отчаянную реанимацию: ИВЛ мешком Амбу****, непрямой массаж сердца. Снова и снова.
Лёгкие упорно не хотели раскрываться.
— Ну же, маленький, давай! — хрипло шептал Андрей, не отрывая взгляда от синеющего лица ребёнка.
И вот, долгожданный писк, первый жадный глоток воздуха. Малыш задышал.
Андрей выдохнул, словно выпустил из себя всё напряжение. Сделал назначения, побежал в детское отделение. Мгновенно осознал катастрофическую нехватку оборудования.
Ещё до получения анализов младенцa скрутили судороги. Таких Андрей не видел никогда. Ручки и ножки мальчика беспорядочно вздрагивали, на личике застыла гримаса первобытного ужаса.
«Чужой… долбанный Чужой…» — пронеслось в голове.
Анализы подтвердили худшие опасения: критически низкий уровень сахара и кальция. Срочно — глюкозу и кальция глюконат! Андрей судорожно вспоминал протоколы лечения, листал в памяти зачитанные до дыр страницы учебника реаниматологии. Чувствовал свою беспомощность.
Ночь тянулась, словно резиновая. Андрей обрывал телефоны, звонил наставнику в Архангельск, знакомым реаниматологам, всем, кто мог помочь консультацией. Ведь здесь, в этой глуши, неоткуда было ждать подмоги. Только ты сам.
Санитарка принесла чай и бутерброд. Андрей механически откусил кусок, но проглотить не смог. В голове билась одна и та же мысль:
«Что я ещё не предусмотрел? Как помочь?»
— Нам нужен вертолет из Архангельска, — поделился он мыслями с Валентиной.
— Уже вызвали, — ответила старшая акушерка, — но ждать часов семь…
Днём он отменил все плановые приёмы, оставил в поликлинике только экстренные случаи. Сказал водителям везти детей с мамами прямо к нему на приём прямо сюда, в ЦРБ.
Наконец прилетел вертолет.
Измученный, но живой младенец был оперативно доставлен в областную детскую больницу. Андрей, не дожидаясь смены, рухнул в общежитии, чтобы украсть хотя бы несколько часов сна. В Архангельске, потом, Андрей навещал ребёнка, выпрашивая у заведующего отделением несколько минут, чтобы просто взглянуть на малыша. Именно этот мальчик, Олег, как его назвали родители, преподал Андрею самый важный урок в его профессиональной жизни. Он научил его ответственности, бесстрашию, бескорыстности.
Взглянув однажды в зеркало, Андрей заметил свою первую седую прядь. Прошло семнадцать лет, ему уже сорок четыре.
Сейчас он, Андрей Николаевич, стал опытным реаниматологом-анестезиологом, получил множество почётных грамот, но тот мальчик, Олег, навсегда остался в его сердце.
Однажды декабрьским вечером, когда за окном выла метель, в кабинет Андрея вошел посетитель. Высокий, статный молодой парень с внимательными глазами.
— Андрей Сергеевич? — спросил он, протягивая руку. — Вы меня, конечно, не помните, но мама вас вспоминает часто до сих пор.
Андрей вгляделся в его лицо. Что-то смутно знакомое промелькнуло в чертах молодого человека, но память упорно молчала.
— Олег… Олег Соколов, мою маму зовут Ася Михайловна Соколова — произнес парень,— Вы спасли мне жизнь семнадцать лет назад, в Усть-Лыже.
Комната сразу словно наполнилась теплом. Андрей крепко пожал руку Олега. Перед ним стоял не тот крохотный, измученный младенец, а взрослый, уверенный в себе человек.
Олег рассказал, что вырос здоровым и крепким, закончил школу с отличием, сейчас учится в медицинском университете. Его мечта — стать врачом и помогать другим, как когда-то помог ему Андрей.
Разговор затянулся допоздна. Андрей и Олег говорили о медицине, о жизни, о долге. В этот вечер Андрей понял, что все его усилия, все бессонные ночи, весь страх и отчаяние были не напрасны. Он действительно изменил мир к лучшему, пусть даже для одного человека. И этот человек стоял сейчас перед ним, полный благодарности и решимости продолжить его дело.
Пояснения:
*ЦРБ – центральная районная больница
**ФАП – фельдшерско-акушерский пункт
*** кювез (кувёз) - это устройство, которое обеспечивает контролируемую среду для младенцев, нуждающихся в особом уходе. Он представляет собой прозрачную камеру с регулируемой температурой, влажностью и уровнем кислорода. Кювез используется для защиты ребенка от внешних факторов, таких как инфекции, перепады температуры и шум, которые могут негативно сказаться на его здоровье.
Кювезы оснащены современными технологиями, которые позволяют медицинскому персоналу круглосуточно наблюдать за состоянием ребенка и при необходимости быстро реагировать на изменения.
****мешок Амбу - устройство для ручной вентиляции легких у взрослых пациентов и детей. Оборудование применяется экипажами скорой медицинской помощи.
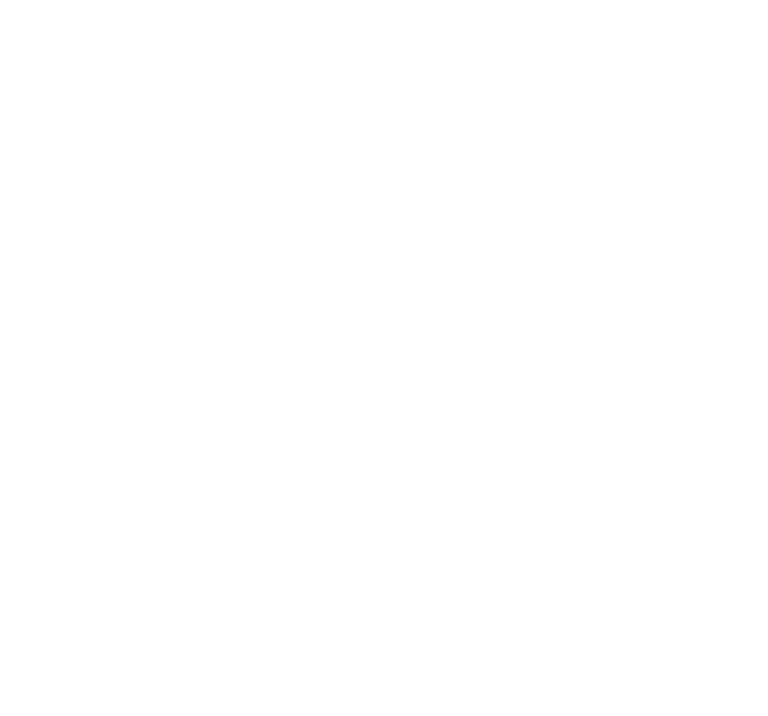
Безмолвный шепот
В основе рассказа лежит реальный клинический случай.
Однако, все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Молчание палаты 307
Серый рассвет просачивался сквозь высокие больничные окна, окрашивая коридоры в призрачные тона. Артём Филатов, интерн в отделении неврологии, ощущал, как усталость свинцом наливается в висках, но горячий кофе и вера в призвание гнали его вперед. Стопки историй болезни на посту медсестры напоминали Эверест, который ему предстояло покорить за сегодня.
Доктор Игнатова, Надежда Николаевна, седовласая заведующая отделением, чье лицо было изваяно годами неизменной концентрации и преданности работе, жестом подозвала Артёма. В ее глазах читалась смесь усталости и интриги.
«Интересное сочетание» - подумалось Артёму.
- Филатов, - ее голос был сух, как осенний лист, но с нотками вызова, - у тебя в палате «особый случай». Палата триста семь. София Романова. Поступила вчера. Диагноз – пока под вопросом: «конверсионная афония».
Артём кивнул. Он знал о психосоматике, но всегда предпочитал чистую механику нервных импульсов, нежели запутанные лабиринты разума.
- Молчит, как партизанка, - продолжила Игнатова, прищурив глаза. - Гортань чиста, связки как новенькие. МРТ - ничего особенного. Психолог её уже осмотрела, говорит о классическом «отрицании». Видимо, стресс. Но сама девушка утверждает, что ничего не помнит. И не представляет, что же может быть причиной. Только какие-то обрывки. Ты попробуй. Молодые оба, может, найдете общий язык.
Палата 307 встретила Артёма тишиной, лишь едва нарушаемой легким шелестом занавесок, сдвинутых в сторону от оконного проёма.
На стуле у окна, повернувшись спиной к двери, сидела девушка. Ее фигура казалась нежно-хрупкой, а плечи были сведены, словно она пыталась спрятаться от всего мира. Солнечный луч, пробившийся сквозь облака, коснулся тёмно-русых прядей её волос, превращая их в подобие нимба.
Входя, Артём старался быть бесшумным, но скрип пола выдал его. Девушка медленно повернула голову. Ее глаза – огромные, изумрудные омуты – были полны такой боли и отчаяния, что сердце Артёма ёкнуло. В них читалось не только страдание, но и какая-то… глубокая тайна?
- Здравствуйте, София, - его голос прозвучал мягче, чем он ожидал. - Я Артём, ваш палатный врач. Доктор Филатов. Как вы себя чувствуете?
Она не ответила. Лишь медленно, словно нехотя, опустила взгляд на свои сцепленные в замок пальцы рук, лежащие на коленях. Артём заметил легкую дрожь в ее руках. Он попробовал предложить ей ручку и блокнот, чтобы она могла написать ему ответ на его вопрос, но она лишь покачала головой, отворачиваясь.
В ее молчании было словно нечто большее, чем просто потеря голоса. Это была плотная завеса, за которой скрывалась целая история
Три дня назад. Ночь. Заброшка на окраине города.
Лунный свет заливал улицу призрачным серебром.
София, с камерой в руках, едва заметная тень среди теней, кралась вдоль щербатого фасада какого-то старого особняка. Каждый виток плюща, каждый облупившийся карниз был словно часть чьей-то истории. Затвор камеры щелкал, жадно поглощая мгновения заброшенной красоты.
Внезапно тишину разорвал грубый, низкий голос. Затем шорох, похожий на шелест листвы, но уже куда более зловещий.
Короткий, обрывистый крик, который вырвался откуда-то из глубины особняка и тут же оборвался. Звук падения, глухой, тяжелый…
И потом – ничего. Абсолютная, звенящая тишина, которая казалась громче любого крика. Камера, как осиротевший щенок, валялась на мокрой от росы траве, ее объектив был разбит, стеклянные осколки мерцали, как слезы.
На следующее утро прохожие найдут ее без сознания, с синяками и ссадинами.
Шепот бумажных страниц
Артём взял себя в руки. Холодная расчётливость врача взяла верх над первым, чисто человеческим чувством жалости.
Он начал обследование, методично, шаг за шагом. Он проверял рефлексы, чувствительность, когнитивные способности, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. София безропотно подчинялась его указаниям, но её взгляд, хоть и был цепкий и проницательный, непрестанно шарил по стенам палаты, словно ища лишь ей известные невидимые знаки.
А он замечал мелочи.
Ее понимание его слов было абсолютным. Она реагировала на юмор, на его вопросы, на едва уловимые изменения в его интонации.
Но продолжала молчать. В ее глазах, когда она смотрела на старые обои, читалась не просто тоска, а скорее попытка что-то вспомнить, выхватить из тумана небытия.
На ее правом запястье, чуть выше тонкой, изящной кисти, виднелся едва заживший, тонкий шрам, словно след от тугого, долго носимого браслета. Или чего-то другого.
Диагноз «Психогенная афония» не давал Артёму покоя. В нем было слишком много вопросов и слишком мало ответов. Он изучил ее историю болезни, всё, до последнего слова: ни простуды, ни интубации, ни других неврологических симптомов. Единственное, что показалось ему странным, – это краткая запись о черепно-мозговой травме, на которую почему-то никто не обращал внимания. На снимках он увидел крошечную гематому в затылочной доле — деталь, которую, казалось, все проигнорировали.
Артём почувствовал, что теряет себя в этом. Он перестал быть просто интерном, он стал настоящим научным исследователем. Этот случай заинтересовал его.
Он начал проводить с Софией все больше времени. Пытаясь найти мост к ее запертому разуму, он однажды рискнул.
- Наша завотделением, Надежда Николаевна, сказала, вы увлекаетесь городской архитектурой, - начал он однажды, присев на стул рядом с кроватью Софии, — Старинные здания, история…
Артём специально зашёл после обхода, чтобы было больше времени на общение.
София впервые за долгий период посмотрела на него с настоящим интересом. В ее глазах мелькнули искорки внимания.
Сегодня Артём специально принес ей один из потрепанных альбомов с репродукциями заброшенных особняков и городских домов, пылящихся в библиотеке. А ещё – старинные карты города, которые он чудом нашел в интернете и распечатал. И даже негативы своего личного «плёночника», старенького «Зенита», с которым он ещё с детства иногда выбирался на собственную «охоту» за интересными ракурсами.
В ее глазах, наконец, потеплело. Медленно, с осторожностью, София потянулась к ручке и блокноту. Ее пальцы дрожали, но вскоре на бумаге появились первые, неровные буквы.
«Почему вы так много со мной говорите? - написала она. - Другие врачи просто дают указания медсёстрам и уходят».
Артём улыбнулся, и эта улыбка была искренней, идущей от самого сердца.
- Потому что я не как все врачи, я - интерн, - ответил он, его голос был теплым и доверительным. - У меня есть время, чтобы разобраться в разных тайнах. И потому что мне кажется, София, вы не просто потеряли голос. Была причина. Что произошло?
Она изучающе смотрела на него, ее взгляд скользил по его лицу, девушка посмотрела прямо Артёму в глаза. Потом снова опустила взгляд на бумагу. Ее рука начала писать.
«Я не помню, - написала она. - Совсем. Только страх. Холод. И чей-то голос. Не мой.»
Артём почувствовал это притяжение. Она была хрупкой, почти прозрачной, но в ее глазах горел огонь, который манил его. Он ощущал, что афония Софии перестала быть для него лишь медицинским случаем. Она стала его личной задачей, его одержимостью.
Тень прошлого
Собственная одержимость начинала тревожить Артёма, но отступать он уже не мог. Он решил пойти против негласного правила и начал свое собственное, пусть и наивное, дилетантское, «расследование».
Его путь лежал к тому проклятому дому, где нашли Софию. Ночью зрелище здесь было, наверное, действительно жутким – ветхие окна, похожие на пустые глазницы, черные провалы дверей. Он нашел разбитую камеру, она валялась недалеко от места проишествия, между осколков бетона и старой листвы, её почему-то не забрали следователи. Или кто там ещё болжен её был забрать?
Карта памяти была пуста, все данные стерты. Но Артём заметил кое-что другое: странные, размытые следы на чуть влажной земле, не похожие на обычные отпечатки обуви.
Вернувшись в ординаторскую, Артём чувствовал себя выжатым лимоном. Пациентка, чьи глаза излучали такую муку, и её полное молчание не давали ему покоя.
«Нужно найти медсестру приёмного отделения, узнать где сейчас её вещи, которые были при поступлении» - подумал Артём.
Чуть позже он рассматривал их так внимательно, как будто работал экспертом-криминалистом в лаборатории следственного комитета, а не интерном в больнице. Ничего особенного: потрёпанная, но крепкая сумка из толстой кожи, почти новая книга по искусству и, самое главное, смартфон.
Телефон был разбит. Дисплей испещрен трещинами, словно паутина, наброшенная на экран, а по краям виднелись осколки. Медсестра, которая принесла её вещи, сказала:
- Нашли рядом с ней, доктор. Видимо, разбился, когда она упала…
Но нет. Артёма насторожило то, что поверхность стекла была повреждена как-то странно – не просто удар, а скорее сдавливание.
Его пальцы невольно потянулись к телефону. Он включил его. И к удивлению, экран, хоть и пестрил черными пятнами битых пикселей, всё же ожил. Пароля не было. Чёрные провалы на дисплее мешали рассмотреть мелкие детали, но основные элементы интерфейса были видны.
Артём открыл список последних вызовов.
Среди последних звонков, большинство из которых были неизвестными номерами или пропущенными от “Мама”, он заметил один, который повторялся с удивительной, почти навязчивой частотой. За последнюю неделю перед инцидентом София звонила ему несколько раз в день, а в день, когда её нашли, было три пропущенных звонка подряд, почти перед рассветом. Контакт был подписан просто: «Кирилл». Ни фамилии, ни должности, ни сердечек – просто имя.
Нестыковка. Человек, которому звонят так часто, не может быть просто мимолетным знакомым. И если София утверждала, что ничего не помнит, то почему её последние действия были связаны именно с этим контактом?
Он сделал фотографию экрана со своего телефона, убедившись, что имя «Кирилл» и время последних вызовов хорошо видны, несмотря на повреждения. Это стало первой ниточкой его расследования.
Артём нашел Кирилла там, где тот чувствовал себя хозяином положения – в лобби роскошного офисного здания, похожего на стеклянный монолит, уходящий в облака. Бывший парень Софии, Кирилл, спускался по мраморным ступеням, обвешанный дорогими брендами и аурой непринуждённой надменности. Его безупречно сшитый итальянский костюм сидел как влитой, подчеркивая стройную фигуру, а тщательно уложенные волосы блестели в свете дизайнерских ламп. Он был воплощением успеха, эталоном того, чего можно достичь в этом городе.
Но Артём, несмотря на свою молодость, научившийся читать между строк чужих страданий, ощутил какую-то глубинную фальшь. Глаза Кирилла – не карие, не голубые, а те самые, неопределенного серого цвета, что редко выдают истинные эмоции – были холодны, как полированный камень. В них не отражалось ничего. Лишь легкая, едва уловимая скука, словно разговор с ним был лишь досадной помехой в его безупречно расписанном дне.
– Артём? - произнес Кирилл, тонко изогнув бровь, словно имя собеседника было слишком простым для его утонченного слуха. - Моя помощница передала, что вы хотели встретиться. По поводу Софии, полагаю?
Его голос был гладким, словно отполированным, как и все в его облике. Он говорил о Софии, изображая сочувствие, его губы дрогнули в подобии скорбной улыбки. Он упомянул о «тяжелом стрессе», о «нервном срыве», в который он несомненно верил, как в единственно возможную причину ее состояния.
– Мы расстались давно, вы понимаете. По-хорошему, конечно. У нас был… легкий кризис в отношениях. Я всегда желал ей только добра. Очень жаль, что с ней такое случилось. Надеюсь, врачи смогут ей помочь. Вы ведь врач?
Последняя фраза прозвучала даже не как вопрос, а как лёгкое унижение. Артём почувствовал себя мальчишкой рядом с этим преуспевающим хищником. Но его решимость узнать, что же случилось с Софией, была крепче любой манипуляции со стороны его собеседника.
Когда Артём попытался задать наводящий вопрос о том вечере, о каких-то деталях, Кирилл внезапно напрягся. Его идеально ровная спина выпрямилась еще больше. Улыбка сползла с лица, и холод в глазах усилился до ледяного блеска. Он коротко бросил взгляд на часы, инкрустированные бриллиантами, потом – прямо в глаза Артёму.
В этом взгляде не было ни сочувствия, ни печали. В нем читалось предупреждение. Немой, беззвучный приказ: не лезь туда, куда не следует, маленький доктор.
Это был взгляд человека, привыкшего получать всё, что он хочет, и не терпящего сопротивления. В нём не было открытой угрозы, но Артём почувствовал, как по его спине пробегает холодок. Фальшивая маска упала, и на мгновение Артём увидел перед собой не просто бизнесмена, а опасного зверя. И этот взгляд, мимолетный, но пронзительный, говорил ему гораздо больше, чем все ранее сказанные слова Кирилла.
– Ей нужна тишина, молодой человек, - процедил Кирилл, сжимая кулаки, - А не ваши дилетантские расследования.
Артём сразу вспомнил слова заведующей своим отделением Игнатовой о том, что он не детектив. Но интуиция шептала ему продолжать расследование.
Артём сидел в ординаторской, вгрызаясь в немногочисленные записи о схожих случаях конверсионной афонии, но его мысли неотступно возвращались к имени «Кирилл» и разбитому экрану телефона Софии. Он почувствовал, что находится на пороге чего-то большего, чем просто интересный медицинский случай. В его голове как будто складывался пазл, первые кусочки которого совсем не походили на типичную клиническую картину.
В этот момент дверь ординаторской тихо скрипнула, и в проёме появилась фигура, которая казалась выше и шире проёма.
Следователь Сергей Анатольевич Морозов.
Усталое лицо, слегка помятый старый плащ на плечах, словно не успел переодеться после ночной смены. Под его глазами залегли темные тени – или от хронического недосыпа, или от слишком многих увиденных им человеческих трагедий. В его взгляде, однако, не было привычной усталости. Он был пронзительным, цепким, словно его глаза привыкли выхватывать детали из хаоса. Он посмотрел на Артёма так, будто уже знал, что именно тот роется в прошлом Софии.
– Доктор Филатов? - голос Морозова был низким, чуть хриплым, как старые радиоприёмники. – Следователь Морозов. Сергей Анатольевич. Мне сказали, вы лечащий врач Софии Романовой? Весьма… необычный случай, как я понимаю.
Артём кивнул, отложив записи.
От следака веяло табаком и каким-то неуловимым запахом улицы – смесью дождя и безнадежности. Артём почувствовал себя школьником, которого поймали на уроке за чтением посторонней литературы или в школьном туалете за курением.
Морозов прошёл, присел напротив, небрежно отодвинув стопку историй болезни. Он вытащил из кармана мятую пачку сигарет, но, заметив табличку “Не курить”, лишь неодобрительно хмыкнул и засунул её обратно.
– Ну, рассказывайте, доктор. Что там у неё? Неврология? Психиатрия? — тон его был лишен какого-либо намека на любопытство, звучал сугубо протокольно, но взгляд внимательно изучал Артёма.
– Пациентка Романова, София. Что по её состоянию?
Артём, стараясь максимально собраться, начал излагать:
– София Романова, 24 года. Найдена без сознания на окраине города, у заброшенного дома по улице Заречная, 13. С многочисленными ушибами, легкой черепно-мозговой травмой… И полной потерей голоса. Афония. Мы пока склоняемся к диагнозу “конверсионная афония” – психогенная природа. Органических повреждений гортани, голосовых связок, структур мозга, отвечающих за речь, не выявлено. Пациентка утверждает, что не помнит события, предшествовавшие инциденту. Только обрывки каких-то воспоминаний, необъяснимый страх…
Морозов слушал, не перебивая, его цепкий взгляд не отрывался от лица Артёма. Он словно прощупывал каждое его слово. Услышав про Заречную, он едва заметно дернул указательным пальцем правой руки.
– “Заречная, 13”… - задумчиво произнёс Морозов. - Любопытно. И студентка-искусствовед. Увлекается городской архитектурой, старые дома фотографирует.
Артём удивленно посмотрел на следователя.
– Откуда вы… да, совершенно верно. Она очень увлекается этим.
– Вот что… - Морозов оперся локтями на стол, подавшись вперед. В его голосе появились новые интонации – они были тише, опаснее. — Полгода назад, примерно в том же районе, доктор, пропала девушка. Анна Вересова. Тоже студентка-искусствовед. Тоже увлекалась этими вашими “заброшками”. Её тогда и не нашли. Растворилась. Как будто и не было. Ни тела, ни зацепок. Полное исчезновение.
Артём почувствовал, как по его спине пробегает холодок. Совпадений не бывает. Особенно таких. Он вспомнил свои мысли о том, что София не просто потеряла голос, она будто увидела что-то, что вынудило её замолчать.
– Мы тогда перевернули всё там вверх дном, всё перерыли, включая мусорные баки, - продолжил Морозов, его взгляд стал жестче, отстранённее, устремленным куда-то в пустоту. – Ничего. Но после этого случая… у меня возникли… параллели. Слишком уж их много. Молодые девушки, искусствоведы, заброшенные дома, и… странные обстоятельства.
Он почти нависал над Артёмом, и в его голосе теперь слышалась нотка требования:
– Доктор, мне нужны все детали. Самые, казалось бы, незначительные. Её состояние. Её воспоминания. Всё. Возможно, именно ваша пациентка - наш единственный шанс хоть что-то выяснить о том, что произошло с Анной.
Между тем, близость Артёма и Софии росла.
Он видел ее прогресс: шепот, сначала еле слышный, потом более уверенный. Первые слоги, потом слова, выдавленные с усилием, но произнесенные.
Он приносил ей всё новые карты старого города, где они вместе искали “забытые” проулки и дома. Или они играли в игру: он читал ей отрывки из любимых книг, а она, затаив дыхание, показывала ему на картинку, символизирующую содержание, или с трудом выводила слово на бумаге.
Однажды, когда Артём сидел рядом, держа ее тонкую руку, София, едва слышно, прошептала:
– Артём… Ты…
Его сердце замерло. Он склонился ближе, чтобы лучше уловить ее голос.
– Что, София? - его голос был полон нежности и ожидания. - Говори. Я рядом.
Она сжала его руку, ее пальцы были до онемения холодны. Потом, собрав все силы, она выдохнула, будто из последних сил:
– Ты – мой голос.
В этом коротком, хриплом шепоте Артём услышал не только слова, но и глубокую, невыразимую надежду. В этот момент он понял, что влюбился. Влюбился в ее хрупкость, в ее стойкость, в загадку ее молчания. И что теперь он не может отступить, даже если опасности, которые он предчувствовал, станут явными.
София начала шептать ему обрывки воспоминаний, которые всплывали как из тумана:
– Шелест… Звук… Старые камни… Огни… Синий…
И, словно ключевое слово, сказанное с мучительным усилием:
– Цепь.
Артём сразу вспомнил о странном шраме на ее запястье. Но он понимал, что «цепь» – это, возможно, нечто большее, чем просто след, оставшийся на коже. Это могла быть и метафора ее несвободы, невидимая цепь, удерживающая ее в безмолвии. И это пугало его куда больше её физических ран.
Пробуждение голоса
Ощущение, что за ним следят, нарастало. Странные, сброшенные звонки на его телефон. Тени, мелькающие на периферии зрения. Артём знал себя, определённо это не паранойя.
Он вернулся в тот старый дом. В этот раз он поднялся на второй этаж. В пыльных комнатах он заметил странные полосы на полу, следы, словно что-то тяжелое волокли по старым пыльным доскам.
Кирилл появился в больнице внезапно, его лицо исказилось от нескрываемой ярости. Проходя мимо Артёма по коридору отделения к палате Софии, он схватил Артёма за рукав, его взгляд был ледяным.
– Ты несешься по минному полю, интерн. Лучше оставь ее в покое. Или будет плохо. Очень плохо.
Артём проводил внимательным взглядом человека, шедшего уверенной походкой в палату, зная, что у девушки сейчас занятия с психотерапевтом и её там нет.
Доктор Игнатова, подозревая личную заинтересованность Артёма, предостерегла его:
– Артём, ты слишком глубоко погружаешься в этот случай. Ты врач, а не детектив. Это может быть опасно.
Но он уже не мог остановиться.
Дни превращались в недели.
Артём, балансируя между интернатурой, дежурствами и стремительно разгорающимся чувством к Софии, всё глубже погружался в её хрупкий мир. Он по-прежнему проводил с ней часы, теперь уже сменяя медицинские осмотры на осторожные беседы, где главную роль играли бумага, ручка и интуиция. София, медленно, с огромным трудом, возвращала себе способность шептать.
Сначала это были отдельные слоги, потом слова, выдавленные из себя с неимоверным усилием, а затем и целые, хотя и обрывочные, фразы. Но главное – она доверяла Артёму. Полностью. Её глаза, когда она смотрела на него, были открытой книгой боли, страха и нежной надежды.
Между тем, Артём и детектив Морозов продолжали своё негласное сотрудничество. Морозов подкидывал скудные зацепки из дела Анны Вересовой, а Артём внимательно анализировал их, пытаясь найти отклик в молчаливом мире Софии. Фотографии, старые газетные вырезки, карты района, где исчезла Анна – всё это Артём осторожно показывал Софии, наблюдая за её реакцией.
Однажды Артём принес ей старинную карту города, купленную на выходных на блошином рынке. Она была изрисована пометками, едва заметными, почти стершимися кружками и линиями, сделанными, судя по всему, рукой ещё более страстной ценительницы или ценителя архитектуры, чем сама София.
– Это… план старых зданий, - прошептала София, её палец дрожал, указывая на один из кружков, обозначавший тот самый дом на Заречной. - Мы… вместе ходили. Она… очень любила старинные дома.
“Мы” – это слово дало Артёму толчок.
В следующий раз он показал ей фотографию улыбающейся Анны. София сразу узнала её. И тогда из неё хлынул поток шёпота, перемежающийся судорожными выдохами и задыхающимися звуками. Слова были обрывочны, как вспышки молнии в грозу:
– Тайник… Картины… Неправильно… Кирилл… Он… кричал… на неё…
Артём запоминал эти обрывочные слова, словно осколки ценного китайского фарфора, словно драгоценные камни.
Кирилл.
Это имя теперь звучало не просто как недавний бойфренд Софии, а как ключ к разгадке. Он был успешен, элегантен, но Морозов, пробивший его биографию, нашёл там темные пятна. Неприметные сразу аферы с недвижимостью, замешанные на “исторически ценных” объектах. Но главное – всплыли сведения о его давних связях с теневым рынком антиквариата. Он не просто торговал, он был коллекционером, только особого рода, который предпочитал “не засвеченные” экземпляры.
– Он использовал эти дома… как тайники, — прошептала София, её глаза расширились от ужаса, когда на одной из старых фотографий она увидела знакомый старинный сундук, мелькнувший в подвальном помещении дома на Заречной.
Она его сфотографировала. Случайно. Заигравшись с ракурсами.
– Спрятанные… Вещи… Я видела… Как он прятал.
Пазл начинал складываться.
Кирилл, занимавшийся незаконной торговлей редкими артефактами, использовал старинные, заброшенные здания как тайники. Для него они были не историей, а лишь хранилищами для своего грязного бизнеса. Анна, такая же влюбленная в старину студентка, как и София, случайно наткнулась на его “операции”. Возможно, она что-то увидела, что-то сфотографировала, или просто оказалась не в том месте не в то время, застав Кирилла около его очередного тайника.
И София, судя по всему, видела то же самое. Она стала свидетельницей преступления Кирилла. А может, она видела и то, что произошло с Анной.
Постепенно София начала говорить шёпотом слова, которые связывались в более понятные фразы, окрашиваясь мрачными подробностями, которые до сих пор были погребены под толщей страха и психологической защиты. Она сидела на диванчике в ординаторской, нервно комкая край своей футболки. Артём сидел рядом, держа её за левую руку, ощущая, как мелкая дрожь пробегает по её пальцам. Он чувствовал, как из неё как будто вырывается наружу вся та боль, весь тот ужас, который она пережила.
– Он… кричал, - еле слышно начала она, её глаза были широко распахнуты, но взгляд был устремлен куда-то в пустоту, в ту ночь, которую она так отчаянно пыталась забыть. - Мои фотографии… Он держал их. Старые гравюры… из подвала. Они же… они были там! В сундуке… А я его сфотографировала… Случайно…
Слова текли из неё тонкой струйкой, прерываемые судорожными вдохами, словно она задыхалась от самой памяти.
– Его лицо… оно изменилось, Артём. Я никогда не видела его таким. Незнакомец. Это был словно совсем другой человек. Глаза… его глаза были как лёд. Пустые. Жестокие. Он схватил меня за запястье… так сильно, что я думала, кость хрустнет. - София поднесла ослабшую руку к Артёму, и он вновь увидел едва заметные синяки у неё на запястье. - Он говорил… что я ничего не видела. Что я должна забыть. Иначе… он сделает так, что все забудут меня. Сведет с ума… Или… или… сделает больно моим близким.
Голос её почти сорвался на плач. Артём почувствовал, как она цепляется за его руку, словно за спасательный круг.
– Он говорил про Аню, - прошептала она, её тело содрогнулось. - Он сказал… что она слишком много знала. Что она слишком много говорила. И теперь ее нет. Он сказал, что я должна была сделать выводы. Понять, что мне лучше молчать. Иначе я закончу так же.
Её мозг, видимо, не смог вместить этот ужас. Этот образ Кирилла – не её парня, а беспощадного, чужого человека, угрожающего ей и её близким, убийцы, возможно, лишившего жизни другую девушку – был настолько далёк от того образа, который она знала, что психика не выдержала. Она вывернула её наизнанку, создав мощный заслон. Механизм самозащиты сработал молниеносно и безжалостно, заглушив правду, чтобы спасти её от неё самой. Чтобы она не могла рассказать о том, что видела, о том, что пережила. Чтобы она была в безопасности. В полной, звенящей тишине.
Но теперь, благодаря терпению Артёма, его нежности и настойчивости, этот защитный барьер давал трещину. Слова, один за другим, вырывались наружу, болезненно, но неотвратимо, рисуя картину того вечера, когда София потеряла голос. Её шепот был наполнен болью.
Артём вместе со следователем Морозовым подозревали, что Кирилл, чтобы заставить ее замолчать, прибегнул к более изощренному методу, чем просто насилие. Он инсценировал нападение, но ключевым был психологический удар. Он напугал ее до такой степени, что ее собственный разум «отключил» голос, как защитный механизм, чтобы она не смогла рассказать о том, что видела. «Ошейник» – не физический, а психологический. Угрозы Кирилла касались ее близких, ее будущего, если она хоть что-то произнесет.
За Кириллом уже наблюдали оперативники.
Морозов сообщил Артёму, что по имеющейся информации, в одном из старых особняков города Кирилл собирался провернуть свою очередную сделку.
Артём, рискуя всем, взял с собой Софию. Он был уверен – только присутствие на месте преступления, в эпицентре ее травмы, могло сломить барьер, вернуть ей голос. Это было очень рискованно, но девушка сама его попросила.
Внутри особняка царил полумрак, воздух был тяжелым от пыли и запаха тления. Кирилл с подельниками обсуждали детали сделки внутри.
Морозов и группа захвата ждали снаружи.
Артём с Софией приехали намного раньше намеченного времени и уже прятались там, где по их расчётам должна была состояться встреча. Старый шкаф идеально подошёл для их убежища.
Услышав властный голос Кирилла, у девушки непроизвольно подкосились ноги и она сползла вниз по стенке шкафа. Артём не успел её удержать.
Из соседней комнаты Кирилл услышал подозрительный шорох. Его глаза сузились, на лице появилась звериная ярость. Он сразу понял откуда шёл звук, подошёл к дверцам шкафа, рывком открыл и сразу же бросился на Артёма.
– Ты, выскочка! - прошипел Кирилл, его голос был полон ненависти. – Сколько раз я тебя предупреждал! Не лезь не в свое дело! Ты труп! А она все равно ничего не сможет сказать! Ты же врач, ты знаешь – они молчат вечно!
Он ударил Артёма кулаком, попав в челюсть, тот потерял равновесие и упал. Кирилл нагнулся, подняв с пола тяжелую, бронзовую статуэтку.
Глаза Софии расширились от ужасаю
Эхо правды
В ее сознании, словно порезанная кинопленка, замелькали обрывки той роковой ночи: Анна, старый дом, тот же звук глухого удара, когда что-то тяжелое упало… и тишина. Звенящая, давящая тишина.
В этот момент, словно разорванная плотина, обрушилась стена амнезии. Все всплыло. Она вспомнила. Анна не «пропала». Ее убили. Убил Кирилл.
В этот критический момент, когда страх за Артёма пересилил ее собственный, глубоко запрятанный ужас, София издала звук. Он был хриплым, диким, но это был КРИК. Громкий, пронзительный, рожденный из глубин ее тела, исторгнутый из ее души истошным воплем.
– СТОЙ! - ее голос, изломанный, но живой, разорвал тишину особняка. - ТЫ УБИЙЦА! ТЫ УБИЛ АННУ!
Эти слова, ее слова, произнесенные впервые за долгие месяцы, эхом разнеслись по старым стенам, заставляя Кирилла замереть. От неожиданности он уронил статуэтку, его глаза расширились от недоверия – он не мог поверить, что она заговорила.
Снаружи послышались сирены, затем грохот выбиваемой двери. Детектив Морозов с группой захвата ворвался в особняк. Кирилл, оцепеневший от шока и собственного фиаско, был задержан. Люди, с кем он встречался, тоже.
София рухнула на колени, ее тело сотрясали конвульсии. Артём бросился к ней, обнял, прижал к себе. Она всхлипывала, ее голос звенел от боли и освобождения.
– Я… видела… - шептала она, прижимаясь к нему. - Все…
Голосовой ландшафт
Месяцы, последовавшие за тем роковым вечером, были наполнены работой и исцелением. София проходила интенсивную реабилитацию: голосовая терапия, психотерапия. Ее голос, поначалу хриплый и слабый, постепенно крепчал, возвращаясь к своему прежнему, необыкновенно чистому и мелодичному тембру.
Освобожденная от бремени прошлого, она снова могла рисовать, начала вновь фотографировать, могла говорить о том, что видела и чувствовала.
Артём успешно завершил интернатуру. Его репутация как наблюдательного, проницательного врача выросла. Доктор Игнатова, хоть и сохраняла свою обычную сдержанность, в ее глазах читалось нескрываемое уважение к молодому коллеге.
Кирилл был осужден. Показания Софии на суде, подкрепленные найденными Морозовым доказательствами, привели его за решетку не только за убийство Анны, но и за целый перечень преступлений.
Прошло еще несколько месяцев. Осень вступила в свои права, окрашивая город в золото и багрянец. Артём и София гуляли по парку, взявшись за руки. Ее смех, чистый и звонкий, разносился по аллее. Она рассказывала ему о своих новых студенческих проектах, о планах на будущее.
– Знаешь, София, - Артём нежно сжал ее ладонь, его глаза светились любовью. - Я тебе кое-что приготовил.
Он достал из кармана маленький, потрепанный блокнот и ручку – те самые, что он когда-то давал ей в палате.
София удивленно улыбнулась, ее глаза сияли, как два изумруда.
– Для чего это? Я же теперь могу говорить.
Артём наклонился и нежно поцеловал ее в макушку.
– Для того, чтобы ты всегда помнила, - его голос был теплым, как нагретый солнцем камень, - что твой голос – это не только звук. Это смелость, это правда, это любовь. Моя любовь к тебе. И даже когда ты молчала, София, я слышал тебя всем сердцем.
Она подняла на него глаза, полные слез и обожания. В ее взгляде не было больше страха, только безграничное, всепоглощающее чувство. Она притянула его к себе и поцеловала – долго, нежно, словно пытаясь передать в этом поцелуе все слова, которые не могла произнести так долго.
Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в невероятные оттенки пурпура и золота. Безмолвный шепот прошлого остался позади, похороненный под ворохом опавших листьев и забытых тайн. Впереди их ждали лишь слова, произнесенные с любовью, и полное, свободное звучание.
Однако, все события, описанные в данном рассказе, являются художественным вымыслом автора, как и фамилии с именами. Любое совпадение является случайным.
Молчание палаты 307
Серый рассвет просачивался сквозь высокие больничные окна, окрашивая коридоры в призрачные тона. Артём Филатов, интерн в отделении неврологии, ощущал, как усталость свинцом наливается в висках, но горячий кофе и вера в призвание гнали его вперед. Стопки историй болезни на посту медсестры напоминали Эверест, который ему предстояло покорить за сегодня.
Доктор Игнатова, Надежда Николаевна, седовласая заведующая отделением, чье лицо было изваяно годами неизменной концентрации и преданности работе, жестом подозвала Артёма. В ее глазах читалась смесь усталости и интриги.
«Интересное сочетание» - подумалось Артёму.
- Филатов, - ее голос был сух, как осенний лист, но с нотками вызова, - у тебя в палате «особый случай». Палата триста семь. София Романова. Поступила вчера. Диагноз – пока под вопросом: «конверсионная афония».
Артём кивнул. Он знал о психосоматике, но всегда предпочитал чистую механику нервных импульсов, нежели запутанные лабиринты разума.
- Молчит, как партизанка, - продолжила Игнатова, прищурив глаза. - Гортань чиста, связки как новенькие. МРТ - ничего особенного. Психолог её уже осмотрела, говорит о классическом «отрицании». Видимо, стресс. Но сама девушка утверждает, что ничего не помнит. И не представляет, что же может быть причиной. Только какие-то обрывки. Ты попробуй. Молодые оба, может, найдете общий язык.
Палата 307 встретила Артёма тишиной, лишь едва нарушаемой легким шелестом занавесок, сдвинутых в сторону от оконного проёма.
На стуле у окна, повернувшись спиной к двери, сидела девушка. Ее фигура казалась нежно-хрупкой, а плечи были сведены, словно она пыталась спрятаться от всего мира. Солнечный луч, пробившийся сквозь облака, коснулся тёмно-русых прядей её волос, превращая их в подобие нимба.
Входя, Артём старался быть бесшумным, но скрип пола выдал его. Девушка медленно повернула голову. Ее глаза – огромные, изумрудные омуты – были полны такой боли и отчаяния, что сердце Артёма ёкнуло. В них читалось не только страдание, но и какая-то… глубокая тайна?
- Здравствуйте, София, - его голос прозвучал мягче, чем он ожидал. - Я Артём, ваш палатный врач. Доктор Филатов. Как вы себя чувствуете?
Она не ответила. Лишь медленно, словно нехотя, опустила взгляд на свои сцепленные в замок пальцы рук, лежащие на коленях. Артём заметил легкую дрожь в ее руках. Он попробовал предложить ей ручку и блокнот, чтобы она могла написать ему ответ на его вопрос, но она лишь покачала головой, отворачиваясь.
В ее молчании было словно нечто большее, чем просто потеря голоса. Это была плотная завеса, за которой скрывалась целая история
Три дня назад. Ночь. Заброшка на окраине города.
Лунный свет заливал улицу призрачным серебром.
София, с камерой в руках, едва заметная тень среди теней, кралась вдоль щербатого фасада какого-то старого особняка. Каждый виток плюща, каждый облупившийся карниз был словно часть чьей-то истории. Затвор камеры щелкал, жадно поглощая мгновения заброшенной красоты.
Внезапно тишину разорвал грубый, низкий голос. Затем шорох, похожий на шелест листвы, но уже куда более зловещий.
Короткий, обрывистый крик, который вырвался откуда-то из глубины особняка и тут же оборвался. Звук падения, глухой, тяжелый…
И потом – ничего. Абсолютная, звенящая тишина, которая казалась громче любого крика. Камера, как осиротевший щенок, валялась на мокрой от росы траве, ее объектив был разбит, стеклянные осколки мерцали, как слезы.
На следующее утро прохожие найдут ее без сознания, с синяками и ссадинами.
Шепот бумажных страниц
Артём взял себя в руки. Холодная расчётливость врача взяла верх над первым, чисто человеческим чувством жалости.
Он начал обследование, методично, шаг за шагом. Он проверял рефлексы, чувствительность, когнитивные способности, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. София безропотно подчинялась его указаниям, но её взгляд, хоть и был цепкий и проницательный, непрестанно шарил по стенам палаты, словно ища лишь ей известные невидимые знаки.
А он замечал мелочи.
Ее понимание его слов было абсолютным. Она реагировала на юмор, на его вопросы, на едва уловимые изменения в его интонации.
Но продолжала молчать. В ее глазах, когда она смотрела на старые обои, читалась не просто тоска, а скорее попытка что-то вспомнить, выхватить из тумана небытия.
На ее правом запястье, чуть выше тонкой, изящной кисти, виднелся едва заживший, тонкий шрам, словно след от тугого, долго носимого браслета. Или чего-то другого.
Диагноз «Психогенная афония» не давал Артёму покоя. В нем было слишком много вопросов и слишком мало ответов. Он изучил ее историю болезни, всё, до последнего слова: ни простуды, ни интубации, ни других неврологических симптомов. Единственное, что показалось ему странным, – это краткая запись о черепно-мозговой травме, на которую почему-то никто не обращал внимания. На снимках он увидел крошечную гематому в затылочной доле — деталь, которую, казалось, все проигнорировали.
Артём почувствовал, что теряет себя в этом. Он перестал быть просто интерном, он стал настоящим научным исследователем. Этот случай заинтересовал его.
Он начал проводить с Софией все больше времени. Пытаясь найти мост к ее запертому разуму, он однажды рискнул.
- Наша завотделением, Надежда Николаевна, сказала, вы увлекаетесь городской архитектурой, - начал он однажды, присев на стул рядом с кроватью Софии, — Старинные здания, история…
Артём специально зашёл после обхода, чтобы было больше времени на общение.
София впервые за долгий период посмотрела на него с настоящим интересом. В ее глазах мелькнули искорки внимания.
Сегодня Артём специально принес ей один из потрепанных альбомов с репродукциями заброшенных особняков и городских домов, пылящихся в библиотеке. А ещё – старинные карты города, которые он чудом нашел в интернете и распечатал. И даже негативы своего личного «плёночника», старенького «Зенита», с которым он ещё с детства иногда выбирался на собственную «охоту» за интересными ракурсами.
В ее глазах, наконец, потеплело. Медленно, с осторожностью, София потянулась к ручке и блокноту. Ее пальцы дрожали, но вскоре на бумаге появились первые, неровные буквы.
«Почему вы так много со мной говорите? - написала она. - Другие врачи просто дают указания медсёстрам и уходят».
Артём улыбнулся, и эта улыбка была искренней, идущей от самого сердца.
- Потому что я не как все врачи, я - интерн, - ответил он, его голос был теплым и доверительным. - У меня есть время, чтобы разобраться в разных тайнах. И потому что мне кажется, София, вы не просто потеряли голос. Была причина. Что произошло?
Она изучающе смотрела на него, ее взгляд скользил по его лицу, девушка посмотрела прямо Артёму в глаза. Потом снова опустила взгляд на бумагу. Ее рука начала писать.
«Я не помню, - написала она. - Совсем. Только страх. Холод. И чей-то голос. Не мой.»
Артём почувствовал это притяжение. Она была хрупкой, почти прозрачной, но в ее глазах горел огонь, который манил его. Он ощущал, что афония Софии перестала быть для него лишь медицинским случаем. Она стала его личной задачей, его одержимостью.
Тень прошлого
Собственная одержимость начинала тревожить Артёма, но отступать он уже не мог. Он решил пойти против негласного правила и начал свое собственное, пусть и наивное, дилетантское, «расследование».
Его путь лежал к тому проклятому дому, где нашли Софию. Ночью зрелище здесь было, наверное, действительно жутким – ветхие окна, похожие на пустые глазницы, черные провалы дверей. Он нашел разбитую камеру, она валялась недалеко от места проишествия, между осколков бетона и старой листвы, её почему-то не забрали следователи. Или кто там ещё болжен её был забрать?
Карта памяти была пуста, все данные стерты. Но Артём заметил кое-что другое: странные, размытые следы на чуть влажной земле, не похожие на обычные отпечатки обуви.
Вернувшись в ординаторскую, Артём чувствовал себя выжатым лимоном. Пациентка, чьи глаза излучали такую муку, и её полное молчание не давали ему покоя.
«Нужно найти медсестру приёмного отделения, узнать где сейчас её вещи, которые были при поступлении» - подумал Артём.
Чуть позже он рассматривал их так внимательно, как будто работал экспертом-криминалистом в лаборатории следственного комитета, а не интерном в больнице. Ничего особенного: потрёпанная, но крепкая сумка из толстой кожи, почти новая книга по искусству и, самое главное, смартфон.
Телефон был разбит. Дисплей испещрен трещинами, словно паутина, наброшенная на экран, а по краям виднелись осколки. Медсестра, которая принесла её вещи, сказала:
- Нашли рядом с ней, доктор. Видимо, разбился, когда она упала…
Но нет. Артёма насторожило то, что поверхность стекла была повреждена как-то странно – не просто удар, а скорее сдавливание.
Его пальцы невольно потянулись к телефону. Он включил его. И к удивлению, экран, хоть и пестрил черными пятнами битых пикселей, всё же ожил. Пароля не было. Чёрные провалы на дисплее мешали рассмотреть мелкие детали, но основные элементы интерфейса были видны.
Артём открыл список последних вызовов.
Среди последних звонков, большинство из которых были неизвестными номерами или пропущенными от “Мама”, он заметил один, который повторялся с удивительной, почти навязчивой частотой. За последнюю неделю перед инцидентом София звонила ему несколько раз в день, а в день, когда её нашли, было три пропущенных звонка подряд, почти перед рассветом. Контакт был подписан просто: «Кирилл». Ни фамилии, ни должности, ни сердечек – просто имя.
Нестыковка. Человек, которому звонят так часто, не может быть просто мимолетным знакомым. И если София утверждала, что ничего не помнит, то почему её последние действия были связаны именно с этим контактом?
Он сделал фотографию экрана со своего телефона, убедившись, что имя «Кирилл» и время последних вызовов хорошо видны, несмотря на повреждения. Это стало первой ниточкой его расследования.
Артём нашел Кирилла там, где тот чувствовал себя хозяином положения – в лобби роскошного офисного здания, похожего на стеклянный монолит, уходящий в облака. Бывший парень Софии, Кирилл, спускался по мраморным ступеням, обвешанный дорогими брендами и аурой непринуждённой надменности. Его безупречно сшитый итальянский костюм сидел как влитой, подчеркивая стройную фигуру, а тщательно уложенные волосы блестели в свете дизайнерских ламп. Он был воплощением успеха, эталоном того, чего можно достичь в этом городе.
Но Артём, несмотря на свою молодость, научившийся читать между строк чужих страданий, ощутил какую-то глубинную фальшь. Глаза Кирилла – не карие, не голубые, а те самые, неопределенного серого цвета, что редко выдают истинные эмоции – были холодны, как полированный камень. В них не отражалось ничего. Лишь легкая, едва уловимая скука, словно разговор с ним был лишь досадной помехой в его безупречно расписанном дне.
– Артём? - произнес Кирилл, тонко изогнув бровь, словно имя собеседника было слишком простым для его утонченного слуха. - Моя помощница передала, что вы хотели встретиться. По поводу Софии, полагаю?
Его голос был гладким, словно отполированным, как и все в его облике. Он говорил о Софии, изображая сочувствие, его губы дрогнули в подобии скорбной улыбки. Он упомянул о «тяжелом стрессе», о «нервном срыве», в который он несомненно верил, как в единственно возможную причину ее состояния.
– Мы расстались давно, вы понимаете. По-хорошему, конечно. У нас был… легкий кризис в отношениях. Я всегда желал ей только добра. Очень жаль, что с ней такое случилось. Надеюсь, врачи смогут ей помочь. Вы ведь врач?
Последняя фраза прозвучала даже не как вопрос, а как лёгкое унижение. Артём почувствовал себя мальчишкой рядом с этим преуспевающим хищником. Но его решимость узнать, что же случилось с Софией, была крепче любой манипуляции со стороны его собеседника.
Когда Артём попытался задать наводящий вопрос о том вечере, о каких-то деталях, Кирилл внезапно напрягся. Его идеально ровная спина выпрямилась еще больше. Улыбка сползла с лица, и холод в глазах усилился до ледяного блеска. Он коротко бросил взгляд на часы, инкрустированные бриллиантами, потом – прямо в глаза Артёму.
В этом взгляде не было ни сочувствия, ни печали. В нем читалось предупреждение. Немой, беззвучный приказ: не лезь туда, куда не следует, маленький доктор.
Это был взгляд человека, привыкшего получать всё, что он хочет, и не терпящего сопротивления. В нём не было открытой угрозы, но Артём почувствовал, как по его спине пробегает холодок. Фальшивая маска упала, и на мгновение Артём увидел перед собой не просто бизнесмена, а опасного зверя. И этот взгляд, мимолетный, но пронзительный, говорил ему гораздо больше, чем все ранее сказанные слова Кирилла.
– Ей нужна тишина, молодой человек, - процедил Кирилл, сжимая кулаки, - А не ваши дилетантские расследования.
Артём сразу вспомнил слова заведующей своим отделением Игнатовой о том, что он не детектив. Но интуиция шептала ему продолжать расследование.
Артём сидел в ординаторской, вгрызаясь в немногочисленные записи о схожих случаях конверсионной афонии, но его мысли неотступно возвращались к имени «Кирилл» и разбитому экрану телефона Софии. Он почувствовал, что находится на пороге чего-то большего, чем просто интересный медицинский случай. В его голове как будто складывался пазл, первые кусочки которого совсем не походили на типичную клиническую картину.
В этот момент дверь ординаторской тихо скрипнула, и в проёме появилась фигура, которая казалась выше и шире проёма.
Следователь Сергей Анатольевич Морозов.
Усталое лицо, слегка помятый старый плащ на плечах, словно не успел переодеться после ночной смены. Под его глазами залегли темные тени – или от хронического недосыпа, или от слишком многих увиденных им человеческих трагедий. В его взгляде, однако, не было привычной усталости. Он был пронзительным, цепким, словно его глаза привыкли выхватывать детали из хаоса. Он посмотрел на Артёма так, будто уже знал, что именно тот роется в прошлом Софии.
– Доктор Филатов? - голос Морозова был низким, чуть хриплым, как старые радиоприёмники. – Следователь Морозов. Сергей Анатольевич. Мне сказали, вы лечащий врач Софии Романовой? Весьма… необычный случай, как я понимаю.
Артём кивнул, отложив записи.
От следака веяло табаком и каким-то неуловимым запахом улицы – смесью дождя и безнадежности. Артём почувствовал себя школьником, которого поймали на уроке за чтением посторонней литературы или в школьном туалете за курением.
Морозов прошёл, присел напротив, небрежно отодвинув стопку историй болезни. Он вытащил из кармана мятую пачку сигарет, но, заметив табличку “Не курить”, лишь неодобрительно хмыкнул и засунул её обратно.
– Ну, рассказывайте, доктор. Что там у неё? Неврология? Психиатрия? — тон его был лишен какого-либо намека на любопытство, звучал сугубо протокольно, но взгляд внимательно изучал Артёма.
– Пациентка Романова, София. Что по её состоянию?
Артём, стараясь максимально собраться, начал излагать:
– София Романова, 24 года. Найдена без сознания на окраине города, у заброшенного дома по улице Заречная, 13. С многочисленными ушибами, легкой черепно-мозговой травмой… И полной потерей голоса. Афония. Мы пока склоняемся к диагнозу “конверсионная афония” – психогенная природа. Органических повреждений гортани, голосовых связок, структур мозга, отвечающих за речь, не выявлено. Пациентка утверждает, что не помнит события, предшествовавшие инциденту. Только обрывки каких-то воспоминаний, необъяснимый страх…
Морозов слушал, не перебивая, его цепкий взгляд не отрывался от лица Артёма. Он словно прощупывал каждое его слово. Услышав про Заречную, он едва заметно дернул указательным пальцем правой руки.
– “Заречная, 13”… - задумчиво произнёс Морозов. - Любопытно. И студентка-искусствовед. Увлекается городской архитектурой, старые дома фотографирует.
Артём удивленно посмотрел на следователя.
– Откуда вы… да, совершенно верно. Она очень увлекается этим.
– Вот что… - Морозов оперся локтями на стол, подавшись вперед. В его голосе появились новые интонации – они были тише, опаснее. — Полгода назад, примерно в том же районе, доктор, пропала девушка. Анна Вересова. Тоже студентка-искусствовед. Тоже увлекалась этими вашими “заброшками”. Её тогда и не нашли. Растворилась. Как будто и не было. Ни тела, ни зацепок. Полное исчезновение.
Артём почувствовал, как по его спине пробегает холодок. Совпадений не бывает. Особенно таких. Он вспомнил свои мысли о том, что София не просто потеряла голос, она будто увидела что-то, что вынудило её замолчать.
– Мы тогда перевернули всё там вверх дном, всё перерыли, включая мусорные баки, - продолжил Морозов, его взгляд стал жестче, отстранённее, устремленным куда-то в пустоту. – Ничего. Но после этого случая… у меня возникли… параллели. Слишком уж их много. Молодые девушки, искусствоведы, заброшенные дома, и… странные обстоятельства.
Он почти нависал над Артёмом, и в его голосе теперь слышалась нотка требования:
– Доктор, мне нужны все детали. Самые, казалось бы, незначительные. Её состояние. Её воспоминания. Всё. Возможно, именно ваша пациентка - наш единственный шанс хоть что-то выяснить о том, что произошло с Анной.
Между тем, близость Артёма и Софии росла.
Он видел ее прогресс: шепот, сначала еле слышный, потом более уверенный. Первые слоги, потом слова, выдавленные с усилием, но произнесенные.
Он приносил ей всё новые карты старого города, где они вместе искали “забытые” проулки и дома. Или они играли в игру: он читал ей отрывки из любимых книг, а она, затаив дыхание, показывала ему на картинку, символизирующую содержание, или с трудом выводила слово на бумаге.
Однажды, когда Артём сидел рядом, держа ее тонкую руку, София, едва слышно, прошептала:
– Артём… Ты…
Его сердце замерло. Он склонился ближе, чтобы лучше уловить ее голос.
– Что, София? - его голос был полон нежности и ожидания. - Говори. Я рядом.
Она сжала его руку, ее пальцы были до онемения холодны. Потом, собрав все силы, она выдохнула, будто из последних сил:
– Ты – мой голос.
В этом коротком, хриплом шепоте Артём услышал не только слова, но и глубокую, невыразимую надежду. В этот момент он понял, что влюбился. Влюбился в ее хрупкость, в ее стойкость, в загадку ее молчания. И что теперь он не может отступить, даже если опасности, которые он предчувствовал, станут явными.
София начала шептать ему обрывки воспоминаний, которые всплывали как из тумана:
– Шелест… Звук… Старые камни… Огни… Синий…
И, словно ключевое слово, сказанное с мучительным усилием:
– Цепь.
Артём сразу вспомнил о странном шраме на ее запястье. Но он понимал, что «цепь» – это, возможно, нечто большее, чем просто след, оставшийся на коже. Это могла быть и метафора ее несвободы, невидимая цепь, удерживающая ее в безмолвии. И это пугало его куда больше её физических ран.
Пробуждение голоса
Ощущение, что за ним следят, нарастало. Странные, сброшенные звонки на его телефон. Тени, мелькающие на периферии зрения. Артём знал себя, определённо это не паранойя.
Он вернулся в тот старый дом. В этот раз он поднялся на второй этаж. В пыльных комнатах он заметил странные полосы на полу, следы, словно что-то тяжелое волокли по старым пыльным доскам.
Кирилл появился в больнице внезапно, его лицо исказилось от нескрываемой ярости. Проходя мимо Артёма по коридору отделения к палате Софии, он схватил Артёма за рукав, его взгляд был ледяным.
– Ты несешься по минному полю, интерн. Лучше оставь ее в покое. Или будет плохо. Очень плохо.
Артём проводил внимательным взглядом человека, шедшего уверенной походкой в палату, зная, что у девушки сейчас занятия с психотерапевтом и её там нет.
Доктор Игнатова, подозревая личную заинтересованность Артёма, предостерегла его:
– Артём, ты слишком глубоко погружаешься в этот случай. Ты врач, а не детектив. Это может быть опасно.
Но он уже не мог остановиться.
Дни превращались в недели.
Артём, балансируя между интернатурой, дежурствами и стремительно разгорающимся чувством к Софии, всё глубже погружался в её хрупкий мир. Он по-прежнему проводил с ней часы, теперь уже сменяя медицинские осмотры на осторожные беседы, где главную роль играли бумага, ручка и интуиция. София, медленно, с огромным трудом, возвращала себе способность шептать.
Сначала это были отдельные слоги, потом слова, выдавленные из себя с неимоверным усилием, а затем и целые, хотя и обрывочные, фразы. Но главное – она доверяла Артёму. Полностью. Её глаза, когда она смотрела на него, были открытой книгой боли, страха и нежной надежды.
Между тем, Артём и детектив Морозов продолжали своё негласное сотрудничество. Морозов подкидывал скудные зацепки из дела Анны Вересовой, а Артём внимательно анализировал их, пытаясь найти отклик в молчаливом мире Софии. Фотографии, старые газетные вырезки, карты района, где исчезла Анна – всё это Артём осторожно показывал Софии, наблюдая за её реакцией.
Однажды Артём принес ей старинную карту города, купленную на выходных на блошином рынке. Она была изрисована пометками, едва заметными, почти стершимися кружками и линиями, сделанными, судя по всему, рукой ещё более страстной ценительницы или ценителя архитектуры, чем сама София.
– Это… план старых зданий, - прошептала София, её палец дрожал, указывая на один из кружков, обозначавший тот самый дом на Заречной. - Мы… вместе ходили. Она… очень любила старинные дома.
“Мы” – это слово дало Артёму толчок.
В следующий раз он показал ей фотографию улыбающейся Анны. София сразу узнала её. И тогда из неё хлынул поток шёпота, перемежающийся судорожными выдохами и задыхающимися звуками. Слова были обрывочны, как вспышки молнии в грозу:
– Тайник… Картины… Неправильно… Кирилл… Он… кричал… на неё…
Артём запоминал эти обрывочные слова, словно осколки ценного китайского фарфора, словно драгоценные камни.
Кирилл.
Это имя теперь звучало не просто как недавний бойфренд Софии, а как ключ к разгадке. Он был успешен, элегантен, но Морозов, пробивший его биографию, нашёл там темные пятна. Неприметные сразу аферы с недвижимостью, замешанные на “исторически ценных” объектах. Но главное – всплыли сведения о его давних связях с теневым рынком антиквариата. Он не просто торговал, он был коллекционером, только особого рода, который предпочитал “не засвеченные” экземпляры.
– Он использовал эти дома… как тайники, — прошептала София, её глаза расширились от ужаса, когда на одной из старых фотографий она увидела знакомый старинный сундук, мелькнувший в подвальном помещении дома на Заречной.
Она его сфотографировала. Случайно. Заигравшись с ракурсами.
– Спрятанные… Вещи… Я видела… Как он прятал.
Пазл начинал складываться.
Кирилл, занимавшийся незаконной торговлей редкими артефактами, использовал старинные, заброшенные здания как тайники. Для него они были не историей, а лишь хранилищами для своего грязного бизнеса. Анна, такая же влюбленная в старину студентка, как и София, случайно наткнулась на его “операции”. Возможно, она что-то увидела, что-то сфотографировала, или просто оказалась не в том месте не в то время, застав Кирилла около его очередного тайника.
И София, судя по всему, видела то же самое. Она стала свидетельницей преступления Кирилла. А может, она видела и то, что произошло с Анной.
Постепенно София начала говорить шёпотом слова, которые связывались в более понятные фразы, окрашиваясь мрачными подробностями, которые до сих пор были погребены под толщей страха и психологической защиты. Она сидела на диванчике в ординаторской, нервно комкая край своей футболки. Артём сидел рядом, держа её за левую руку, ощущая, как мелкая дрожь пробегает по её пальцам. Он чувствовал, как из неё как будто вырывается наружу вся та боль, весь тот ужас, который она пережила.
– Он… кричал, - еле слышно начала она, её глаза были широко распахнуты, но взгляд был устремлен куда-то в пустоту, в ту ночь, которую она так отчаянно пыталась забыть. - Мои фотографии… Он держал их. Старые гравюры… из подвала. Они же… они были там! В сундуке… А я его сфотографировала… Случайно…
Слова текли из неё тонкой струйкой, прерываемые судорожными вдохами, словно она задыхалась от самой памяти.
– Его лицо… оно изменилось, Артём. Я никогда не видела его таким. Незнакомец. Это был словно совсем другой человек. Глаза… его глаза были как лёд. Пустые. Жестокие. Он схватил меня за запястье… так сильно, что я думала, кость хрустнет. - София поднесла ослабшую руку к Артёму, и он вновь увидел едва заметные синяки у неё на запястье. - Он говорил… что я ничего не видела. Что я должна забыть. Иначе… он сделает так, что все забудут меня. Сведет с ума… Или… или… сделает больно моим близким.
Голос её почти сорвался на плач. Артём почувствовал, как она цепляется за его руку, словно за спасательный круг.
– Он говорил про Аню, - прошептала она, её тело содрогнулось. - Он сказал… что она слишком много знала. Что она слишком много говорила. И теперь ее нет. Он сказал, что я должна была сделать выводы. Понять, что мне лучше молчать. Иначе я закончу так же.
Её мозг, видимо, не смог вместить этот ужас. Этот образ Кирилла – не её парня, а беспощадного, чужого человека, угрожающего ей и её близким, убийцы, возможно, лишившего жизни другую девушку – был настолько далёк от того образа, который она знала, что психика не выдержала. Она вывернула её наизнанку, создав мощный заслон. Механизм самозащиты сработал молниеносно и безжалостно, заглушив правду, чтобы спасти её от неё самой. Чтобы она не могла рассказать о том, что видела, о том, что пережила. Чтобы она была в безопасности. В полной, звенящей тишине.
Но теперь, благодаря терпению Артёма, его нежности и настойчивости, этот защитный барьер давал трещину. Слова, один за другим, вырывались наружу, болезненно, но неотвратимо, рисуя картину того вечера, когда София потеряла голос. Её шепот был наполнен болью.
Артём вместе со следователем Морозовым подозревали, что Кирилл, чтобы заставить ее замолчать, прибегнул к более изощренному методу, чем просто насилие. Он инсценировал нападение, но ключевым был психологический удар. Он напугал ее до такой степени, что ее собственный разум «отключил» голос, как защитный механизм, чтобы она не смогла рассказать о том, что видела. «Ошейник» – не физический, а психологический. Угрозы Кирилла касались ее близких, ее будущего, если она хоть что-то произнесет.
За Кириллом уже наблюдали оперативники.
Морозов сообщил Артёму, что по имеющейся информации, в одном из старых особняков города Кирилл собирался провернуть свою очередную сделку.
Артём, рискуя всем, взял с собой Софию. Он был уверен – только присутствие на месте преступления, в эпицентре ее травмы, могло сломить барьер, вернуть ей голос. Это было очень рискованно, но девушка сама его попросила.
Внутри особняка царил полумрак, воздух был тяжелым от пыли и запаха тления. Кирилл с подельниками обсуждали детали сделки внутри.
Морозов и группа захвата ждали снаружи.
Артём с Софией приехали намного раньше намеченного времени и уже прятались там, где по их расчётам должна была состояться встреча. Старый шкаф идеально подошёл для их убежища.
Услышав властный голос Кирилла, у девушки непроизвольно подкосились ноги и она сползла вниз по стенке шкафа. Артём не успел её удержать.
Из соседней комнаты Кирилл услышал подозрительный шорох. Его глаза сузились, на лице появилась звериная ярость. Он сразу понял откуда шёл звук, подошёл к дверцам шкафа, рывком открыл и сразу же бросился на Артёма.
– Ты, выскочка! - прошипел Кирилл, его голос был полон ненависти. – Сколько раз я тебя предупреждал! Не лезь не в свое дело! Ты труп! А она все равно ничего не сможет сказать! Ты же врач, ты знаешь – они молчат вечно!
Он ударил Артёма кулаком, попав в челюсть, тот потерял равновесие и упал. Кирилл нагнулся, подняв с пола тяжелую, бронзовую статуэтку.
Глаза Софии расширились от ужасаю
Эхо правды
В ее сознании, словно порезанная кинопленка, замелькали обрывки той роковой ночи: Анна, старый дом, тот же звук глухого удара, когда что-то тяжелое упало… и тишина. Звенящая, давящая тишина.
В этот момент, словно разорванная плотина, обрушилась стена амнезии. Все всплыло. Она вспомнила. Анна не «пропала». Ее убили. Убил Кирилл.
В этот критический момент, когда страх за Артёма пересилил ее собственный, глубоко запрятанный ужас, София издала звук. Он был хриплым, диким, но это был КРИК. Громкий, пронзительный, рожденный из глубин ее тела, исторгнутый из ее души истошным воплем.
– СТОЙ! - ее голос, изломанный, но живой, разорвал тишину особняка. - ТЫ УБИЙЦА! ТЫ УБИЛ АННУ!
Эти слова, ее слова, произнесенные впервые за долгие месяцы, эхом разнеслись по старым стенам, заставляя Кирилла замереть. От неожиданности он уронил статуэтку, его глаза расширились от недоверия – он не мог поверить, что она заговорила.
Снаружи послышались сирены, затем грохот выбиваемой двери. Детектив Морозов с группой захвата ворвался в особняк. Кирилл, оцепеневший от шока и собственного фиаско, был задержан. Люди, с кем он встречался, тоже.
София рухнула на колени, ее тело сотрясали конвульсии. Артём бросился к ней, обнял, прижал к себе. Она всхлипывала, ее голос звенел от боли и освобождения.
– Я… видела… - шептала она, прижимаясь к нему. - Все…
Голосовой ландшафт
Месяцы, последовавшие за тем роковым вечером, были наполнены работой и исцелением. София проходила интенсивную реабилитацию: голосовая терапия, психотерапия. Ее голос, поначалу хриплый и слабый, постепенно крепчал, возвращаясь к своему прежнему, необыкновенно чистому и мелодичному тембру.
Освобожденная от бремени прошлого, она снова могла рисовать, начала вновь фотографировать, могла говорить о том, что видела и чувствовала.
Артём успешно завершил интернатуру. Его репутация как наблюдательного, проницательного врача выросла. Доктор Игнатова, хоть и сохраняла свою обычную сдержанность, в ее глазах читалось нескрываемое уважение к молодому коллеге.
Кирилл был осужден. Показания Софии на суде, подкрепленные найденными Морозовым доказательствами, привели его за решетку не только за убийство Анны, но и за целый перечень преступлений.
Прошло еще несколько месяцев. Осень вступила в свои права, окрашивая город в золото и багрянец. Артём и София гуляли по парку, взявшись за руки. Ее смех, чистый и звонкий, разносился по аллее. Она рассказывала ему о своих новых студенческих проектах, о планах на будущее.
– Знаешь, София, - Артём нежно сжал ее ладонь, его глаза светились любовью. - Я тебе кое-что приготовил.
Он достал из кармана маленький, потрепанный блокнот и ручку – те самые, что он когда-то давал ей в палате.
София удивленно улыбнулась, ее глаза сияли, как два изумруда.
– Для чего это? Я же теперь могу говорить.
Артём наклонился и нежно поцеловал ее в макушку.
– Для того, чтобы ты всегда помнила, - его голос был теплым, как нагретый солнцем камень, - что твой голос – это не только звук. Это смелость, это правда, это любовь. Моя любовь к тебе. И даже когда ты молчала, София, я слышал тебя всем сердцем.
Она подняла на него глаза, полные слез и обожания. В ее взгляде не было больше страха, только безграничное, всепоглощающее чувство. Она притянула его к себе и поцеловала – долго, нежно, словно пытаясь передать в этом поцелуе все слова, которые не могла произнести так долго.
Солнце садилось за горизонт, окрашивая небо в невероятные оттенки пурпура и золота. Безмолвный шепот прошлого остался позади, похороненный под ворохом опавших листьев и забытых тайн. Впереди их ждали лишь слова, произнесенные с любовью, и полное, свободное звучание.
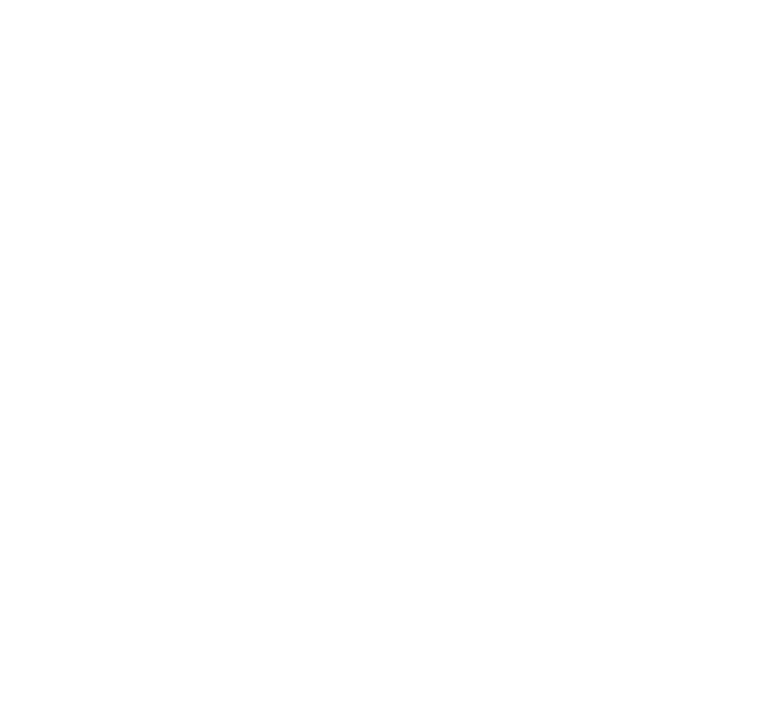
ОТЗЫВЫ
новый комментарий
Михаил Жиганов, читатель
Спасибо, напомнилось, как "цать" лет назад сам начинал в маленькой больнице в богом забытом городке.
А вообще, верю, что рассказы на реале, написано лёгким слогом, читается интересно.
октябрь, 2025
А вообще, верю, что рассказы на реале, написано лёгким слогом, читается интересно.
октябрь, 2025
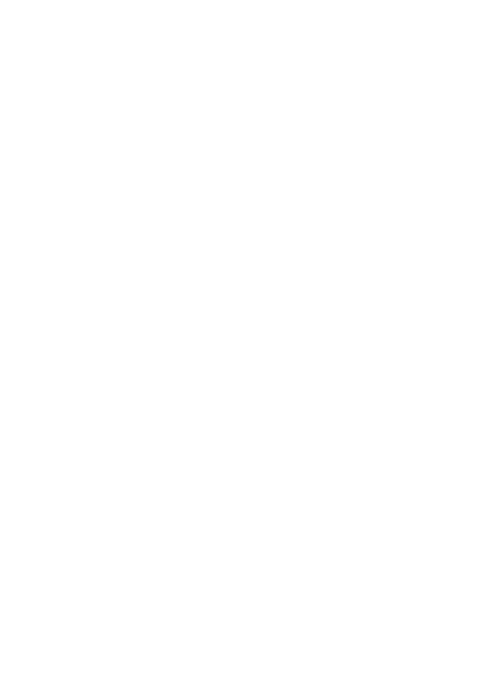
новый комментарий
Рамилля Амирова, читатель
Этот рассказ оставил меня в мурашках – так точно передана грань между детскими фантазиями и пугающей реальностью психического расстройства. Сны мальчика написаны настолько пронзительно, что начинаешь сомневаться в собственной реальности. Это достоино Стивена Кинга!
октябрь, 2025
октябрь, 2025
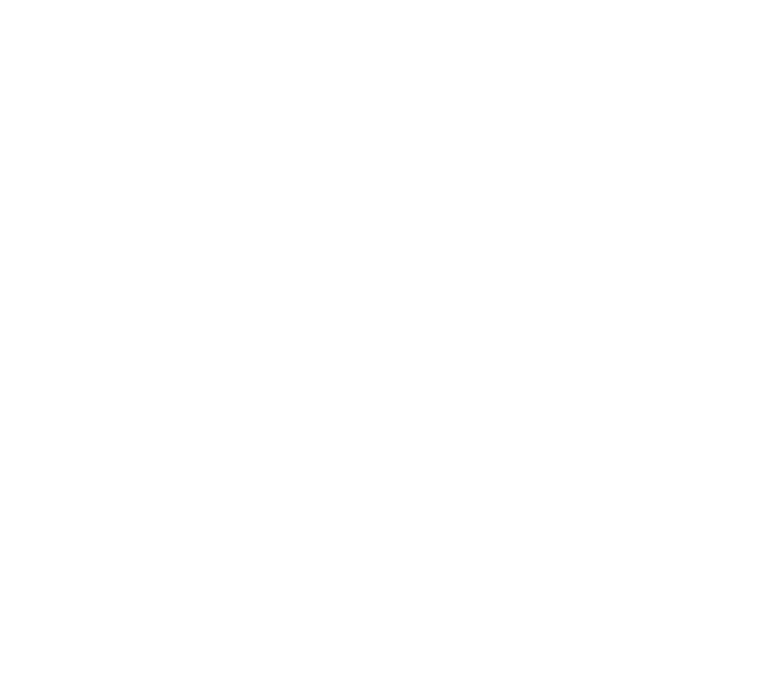
новый комментарий
Влада Кузнецова, читатель
Этот рассказ - маленький праздник для души. Спасибо, что продолжаете радовать!
октябрь, 2025
октябрь, 2025
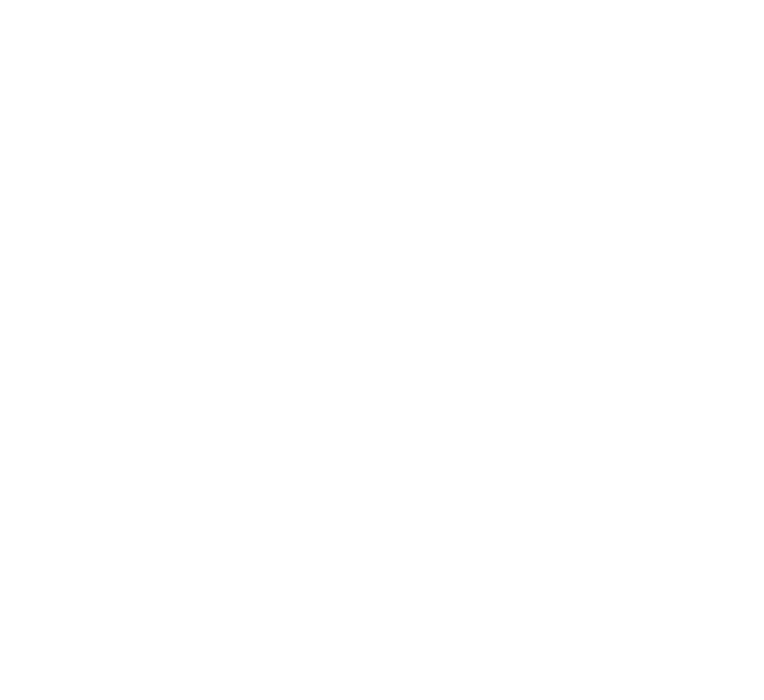
Оля Самирова, читатель
Да, на скорой и не такое бывает. Спасибо автору, про медиков практически нет никаких рассказов, а тут ещё и про коллег по скорой!
сентябрь, 2025
сентябрь, 2025
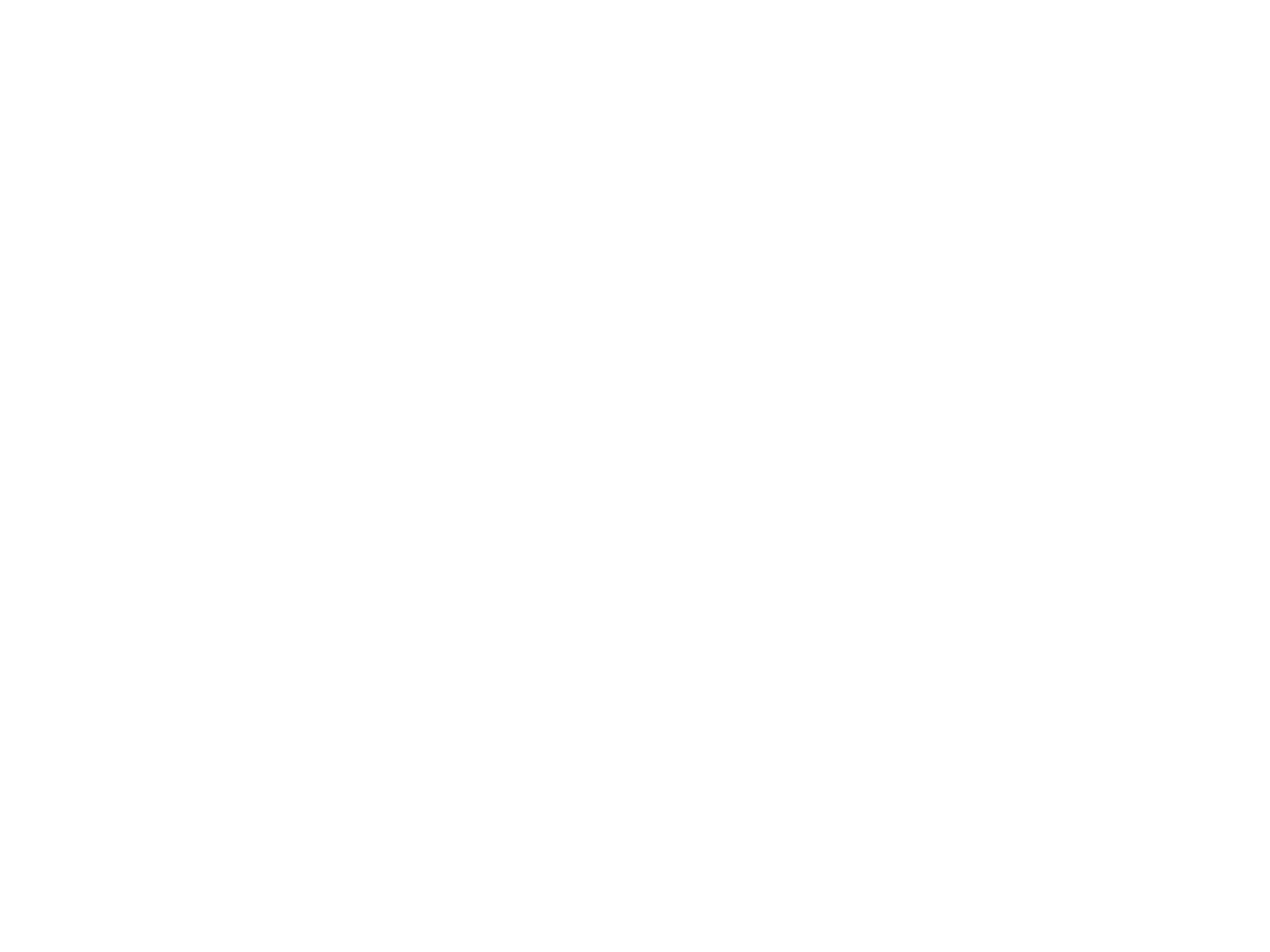
Кирилл Эдуардович, читатель
Прочитал как про себя! Тоже, кстати на ЭКГ было все нормально, а потом бац - и инфоркт в 42 года. !0 лет прошло, а как вчера было. Автору спасибо про рассказ как обо мне. Считаю, что он про меня. Буду рекомендовать сайт к прочтению знакомым.
сентябрь, 2025
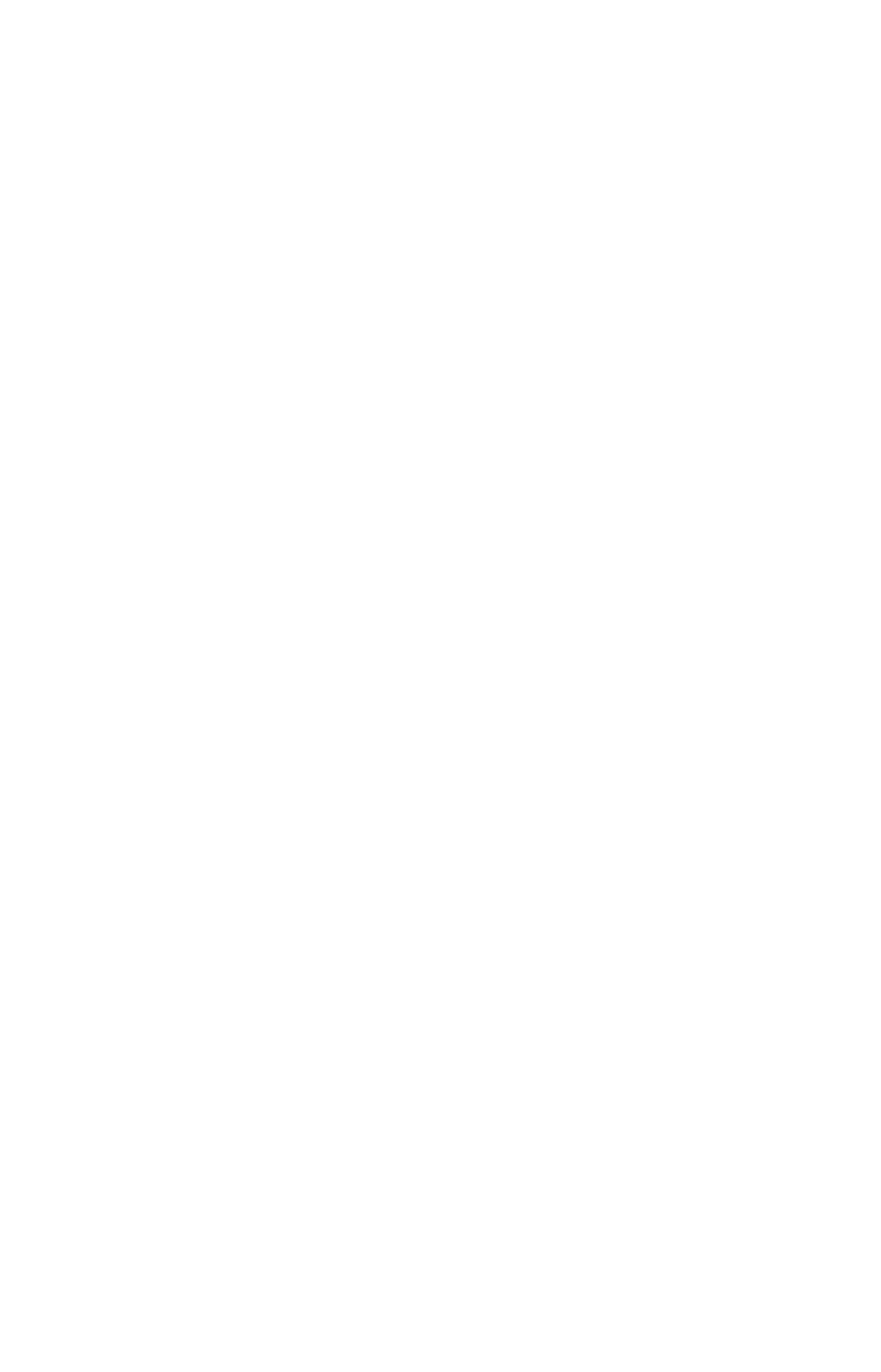
Оля Самирова, читатель
Рассказ изумительный! Так хочется пожелать и героине, и девочке победить рак. Верится с трудом, что такое может быть в реальной жизни, но а вдруг?! Чудеса случаются?
сентябрь, 2025
сентябрь, 2025
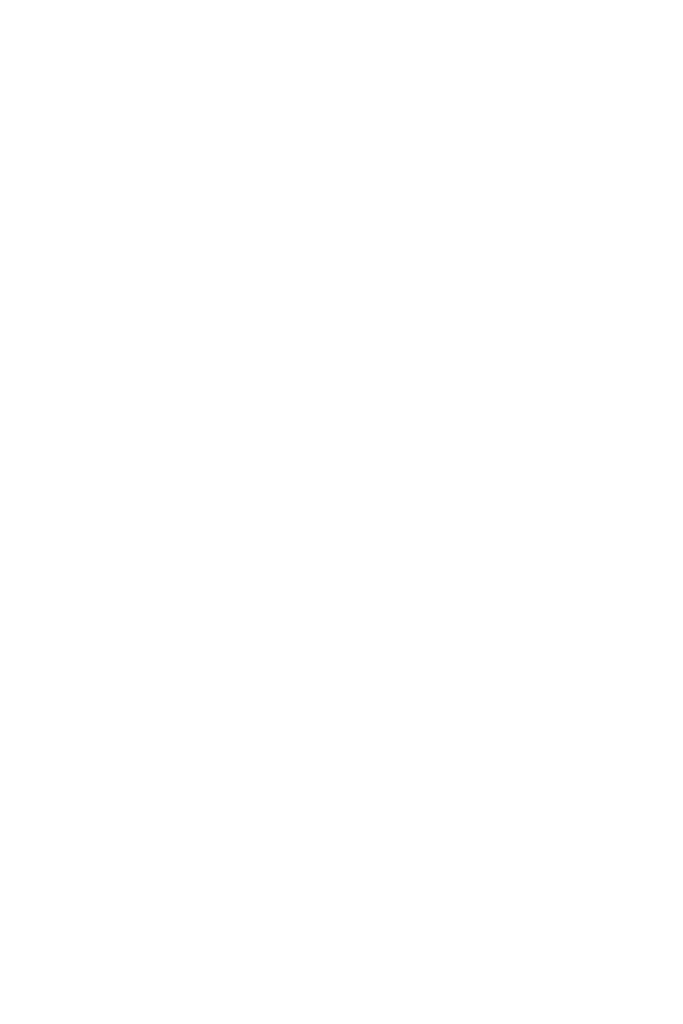
Лара Михеева, читатель
Это сильный рассказ, который трогает за душу и заставляет ценить простые человеческие связи. Он идеален для тех, кто любит истории о семье и морали, но с элементами драмы. Я порекомендую его всем, кто интересуется темами усыновления и этики — это не просто развлечение, а повод для размышлений. Моя оценка: 8/10. Если автор напишет его продолжение, (как развивались отношения между Кирюшей и его настоящей мамой), я обязательно его прочитаю!
сентябрь, 2025
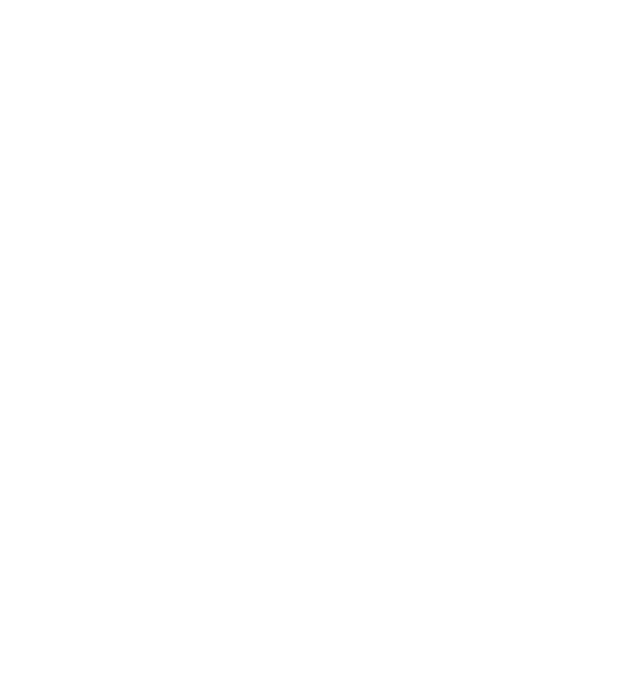
Валерий Гамлет, читатель
Редкий сплав медицинского феномена и литературного таланта автора. Браво!
сентябрь, 2025
сентябрь, 2025
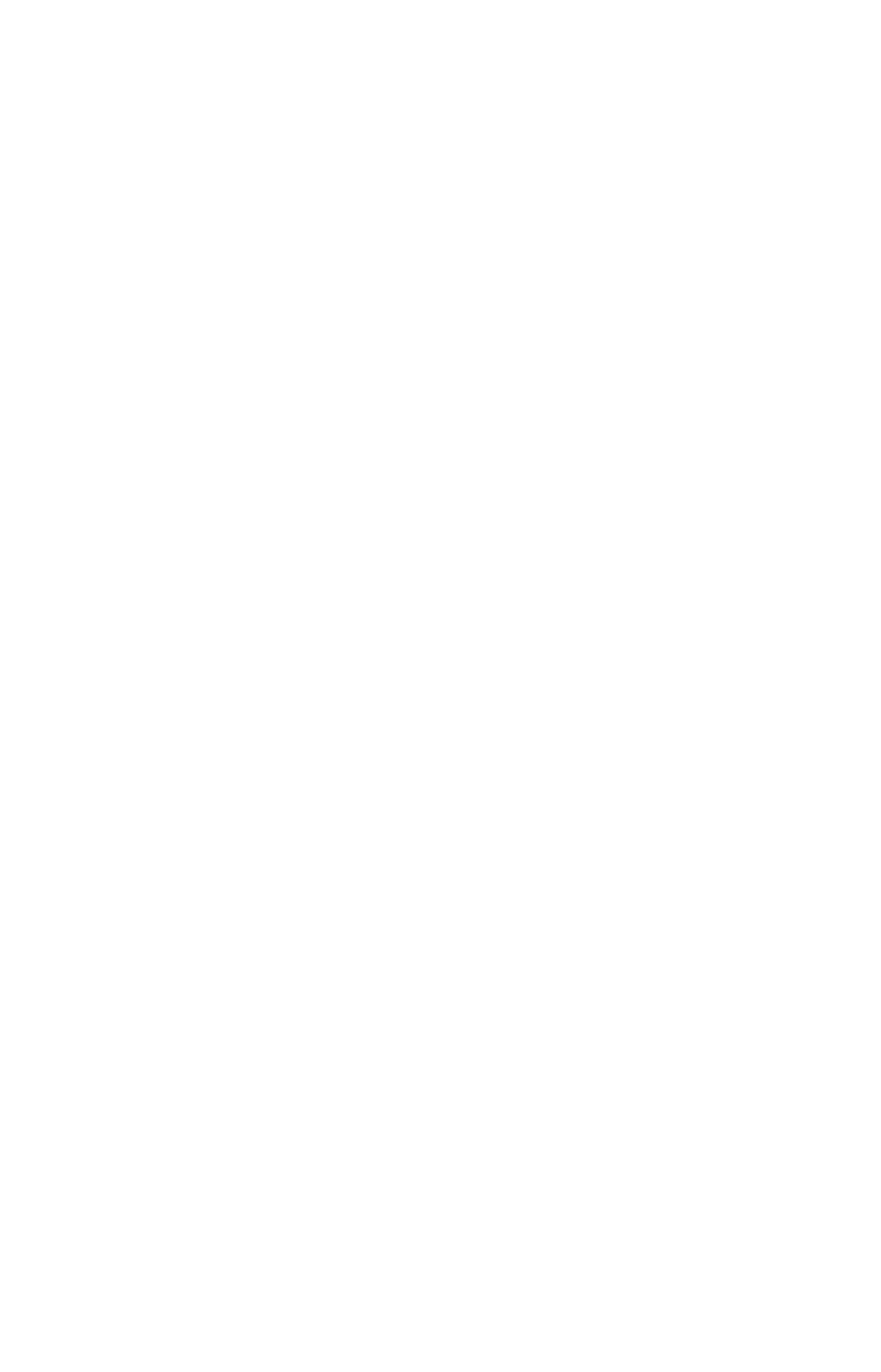
Степан Сергеев, читатель
Этот рассказ тронул до глубины души! Автор удивительно тонко передает трагедию молодой девушки, столкнувшейся с деменцией - ее страх, растерянность и моменты ясности. Особенно трогательно описаны сцены, где ее воспоминания тают, как дым. Сильная и важная работа, которая заставляет ценить каждое мгновение жизни.
сентябрь, 2025
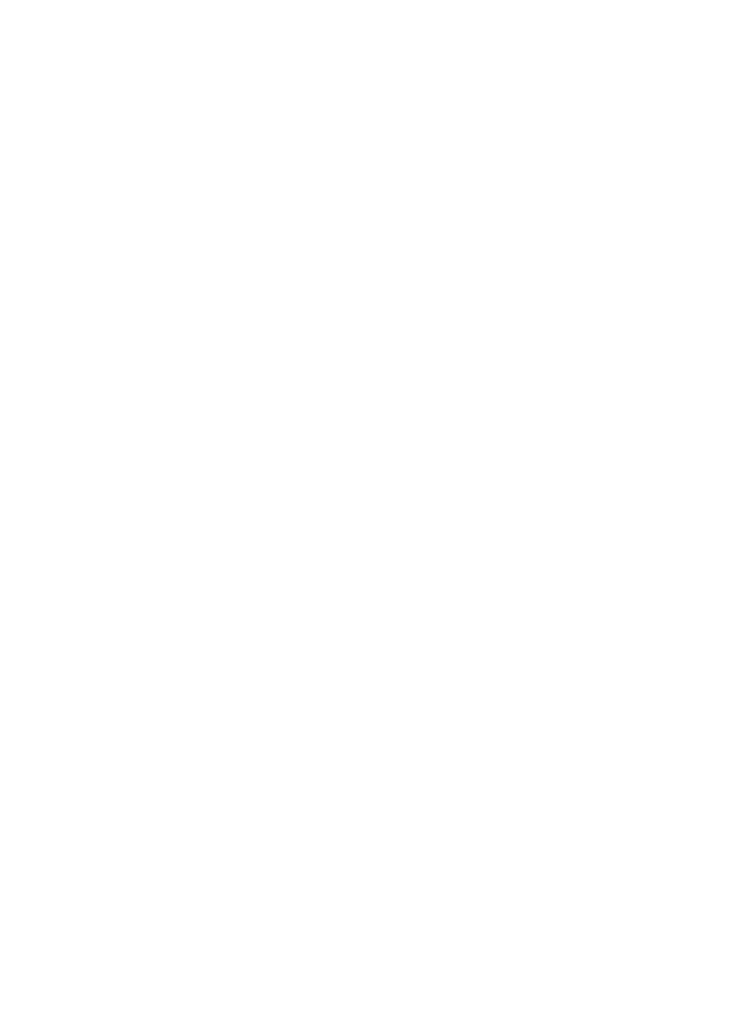
Анастасия Селиванова, читатель
После прочтения отправила ссылку на рассказ бывшему — теперь он наконец понял, почему его «да брось, всё фигня» только больнее ранило. Искусство и разговор как мостик к пониманию!
сентябрь, 2025
сентябрь, 2025
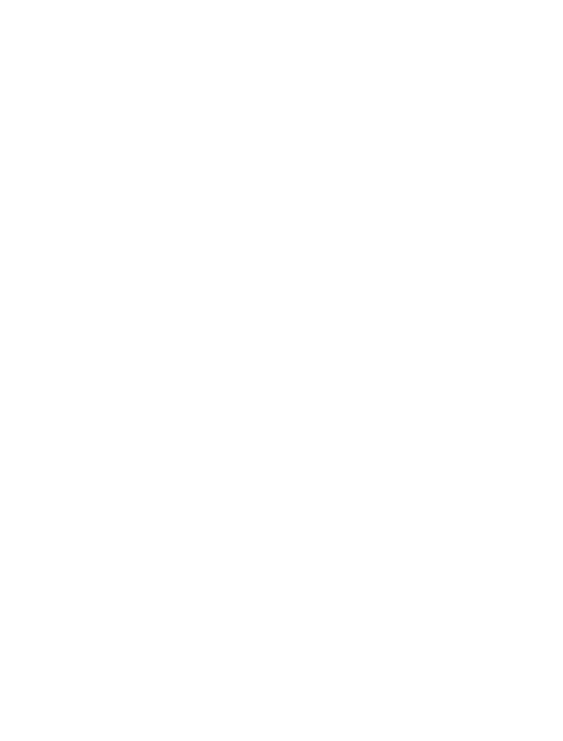
Взрыв мозга, читатель
Этот рассказ оставил впечатление – где та грань между детскими фантазиями и пугающей реальностью психического расстройства. Сон мальчика описан настолько пронзительно, я бы сказал точно передана сама его структура. Это достойно Стивена Кинга!
сентябрь, 2025
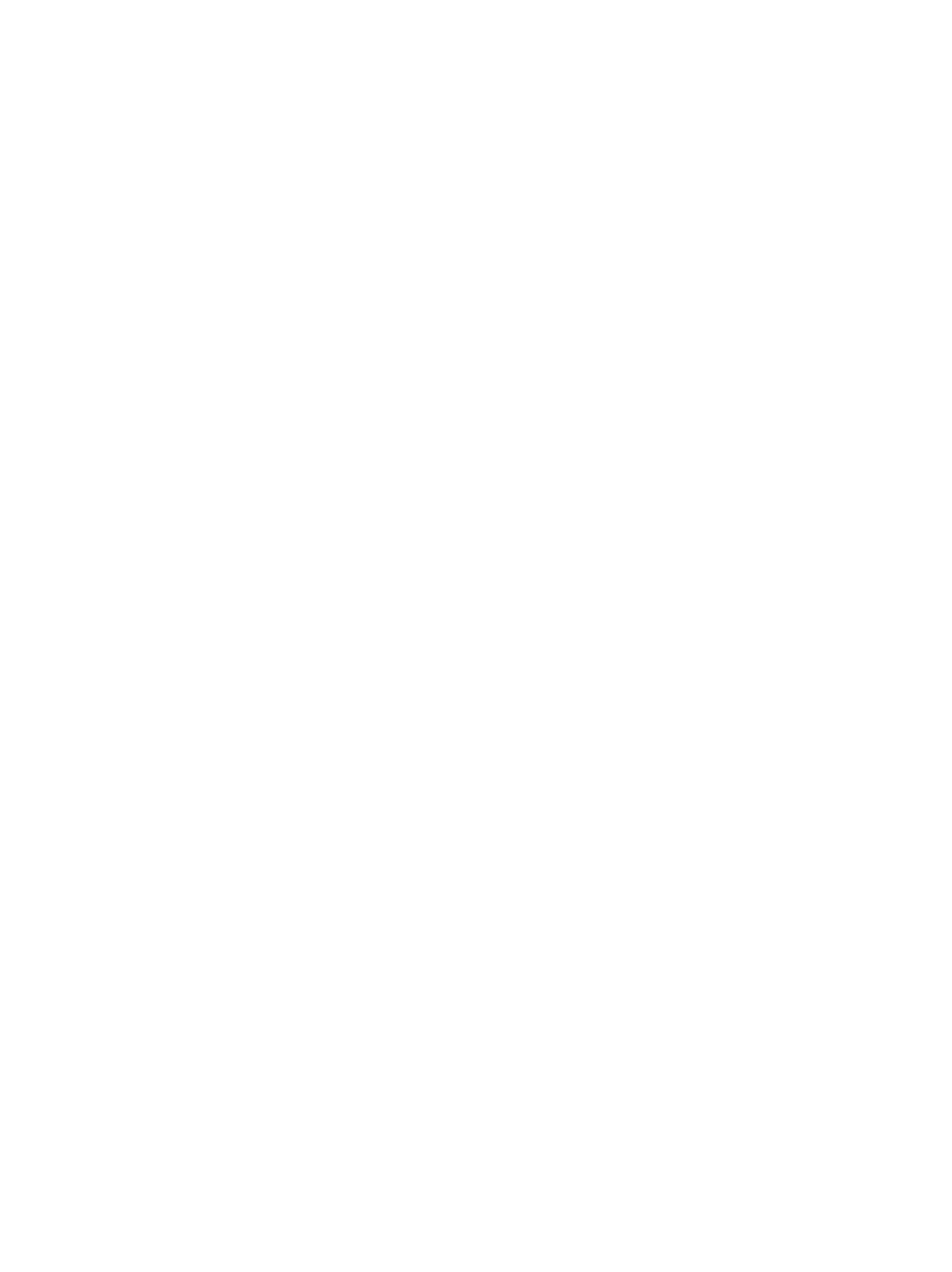
Борис Эдуардович, читатель
Теперь понимаю, почему в Лувре столько скамеек — это не для усталости, а для реабилитации! А если серьёзно - очень познавательно. Браво.
август, 2025
август, 2025
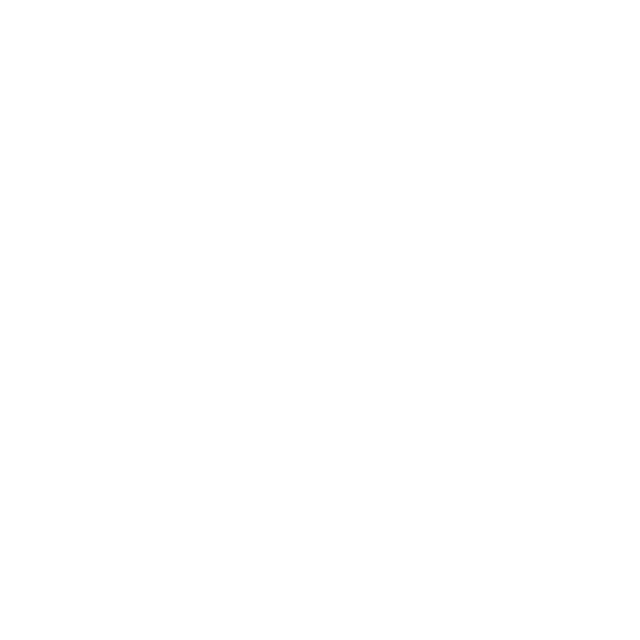
Александра Ивановна, читатель
Читала со слезами на глазах - слишком узнаваемо... Эта панический страх забыть самое дорогое и мучительные моменты осознания своей болезни - все описано до жути точно. Спасибо автору за эту честную историю, которая помогает понять, что переживают такие пациенты. После прочтения по-новому взглянула на свою сестру с аналогичным диагнозом. Буду ждать ваши новые рассказы.
август, 2025
август, 2025
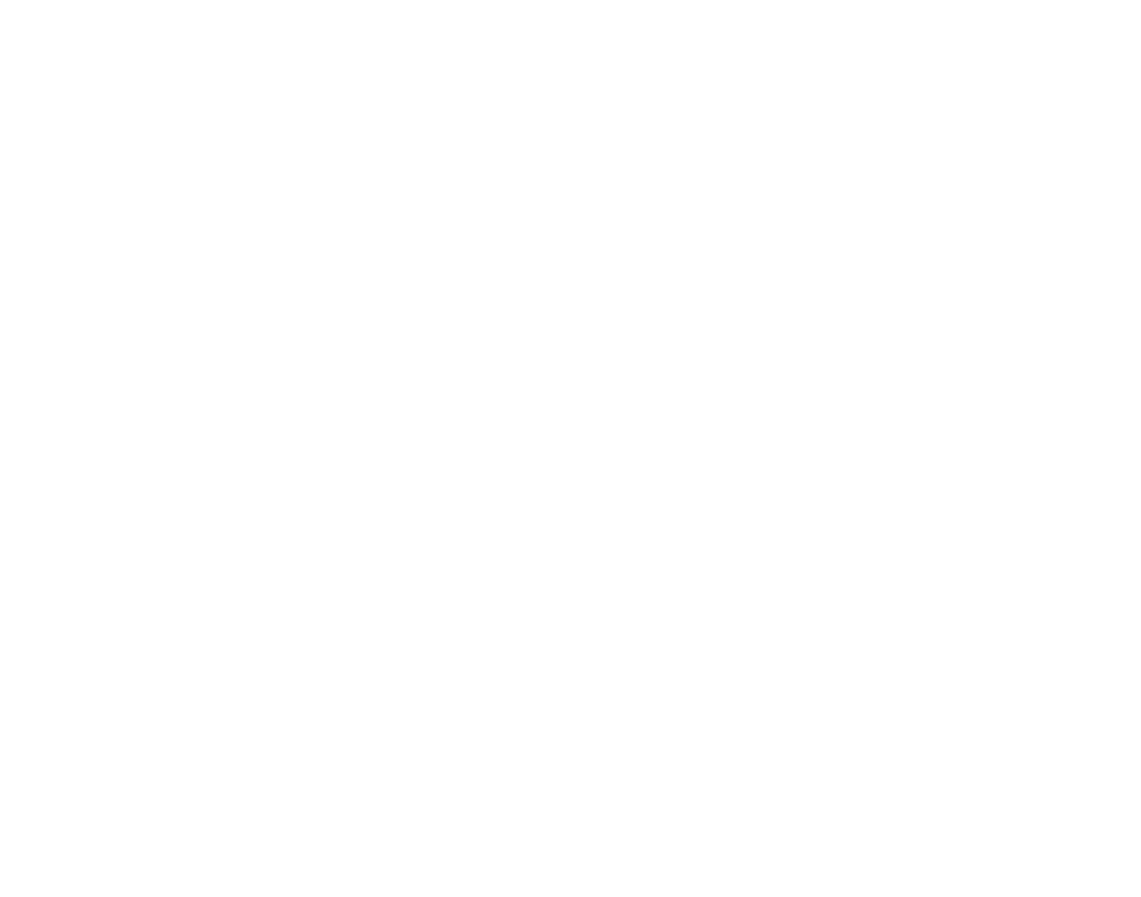
Александр Пожарский, читатель
Прочитал ночью – и тут же пошел проверять, не шепчутся ли обои в детской... Теперь вместе с сыном разглядываем его рисунки с удвоенным вниманием. Спасибо автору за эту тревожную прозорливость! Плюс фобия мне)
август, 2025
август, 2025
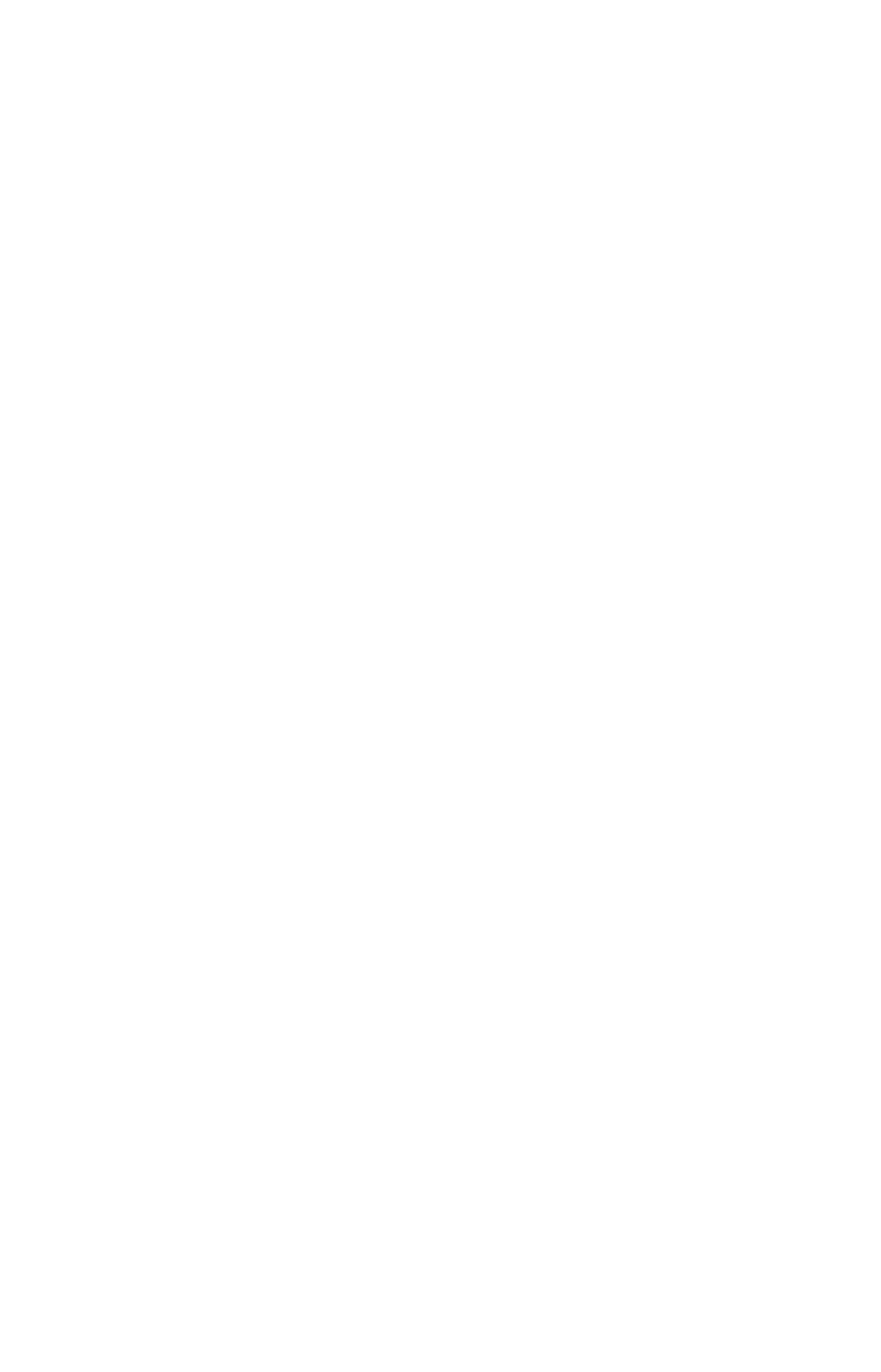
Напишите автору
по электронной почте
prozadiagnoza@mail.ru
Ценю качество общения и порядок в своей цифровой жизни. Спасибо за понимание!