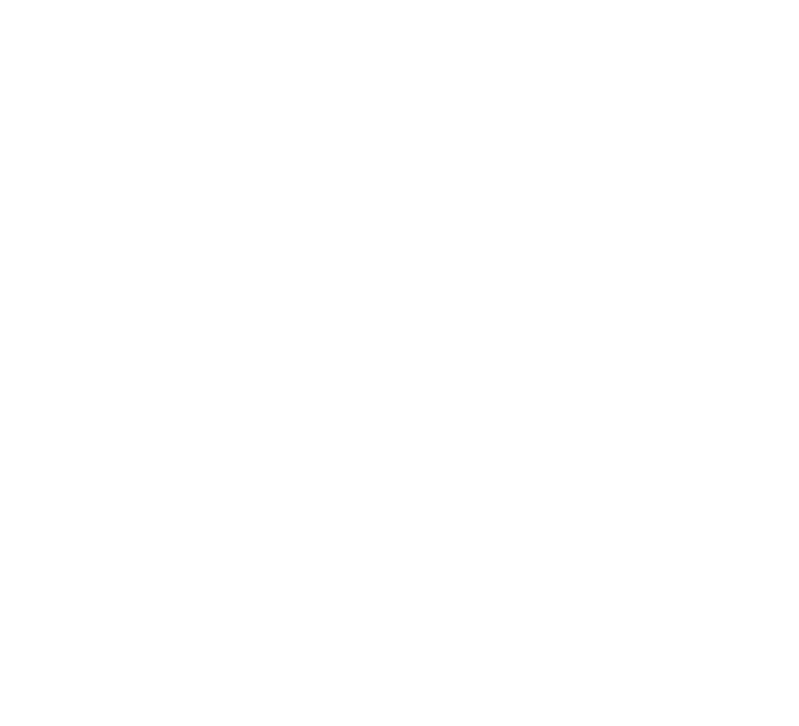На злобу дня: эссе, статьи, заметки и "мысли вслух" на жизненные темы
Откройте для себя коллекцию эссе, статей, заметок и "мыслей вслух" на самые разные жизненные темы. Читайте искренние тексты, которые помогут взглянуть на повседневное под новым углом.
Не судите строго - автор так видит.
Не судите строго - автор так видит.
Страничка сарказма о здоровье
Советы от Мастера Йоды, если бы он практиковал темную сторону силы
Что ж, давайте дадим волю безумию!
"Мысли вслух". Крик души
Истерика — это не про ребёнка. Это про нас.
Я не «воспитала детей без истерик». Просто когда-то и я сама была маленькой и хотела, чтобы меня услышали.
Я не «воспитала детей без истерик». Просто когда-то и я сама была маленькой и хотела, чтобы меня услышали.
"Мысли вслух" к неюбилею. Путешествие через Время: 32 года вместе
32 года. Много это или мало?
Это не просто число; это целая эпоха.
Это не просто число; это целая эпоха.
Эссе. Ружья в карманах и загадочные улыбки
Взяла репродукцию всемирно известной картины и решила описать её словами. Интересно, возможно ли узнать шедевр живописи только по данному пересказу?
"Мысли вслух". Возможно, мошенники?
В наше время телефонные опросы могут быть обычным делом, но иногда они могут скрывать за собой ловушки мошенников.
Из серии "Надоели мошенники!"
Из серии "Надоели мошенники!"
Статья. Особенности самопрезентации личности в социальной интернет-сети. Или как не потерять себя в лайках и селфи
Из серии "Честно на тему..."
Эссе. Психический инфантилизм
Вы встречали взрослых, которые ведут себя так, будто застали эпоху динозавров, но умеют ныть лучше любого ребёнка? Добро пожаловать в мир психического инфантилизма. Из серии "Достало!"
Особенности самопрезентации личности в социальной интернет-сети. Или как не потерять себя в лайках и селфи
Почему самопрезентация — это не просто красивые снимки и цитаты из Бродского?
Каждый раз, когда я публикую пост или рассказываю о себе, внутри начинает такой небольшой «монолог»:
«А как это будет выглядеть? А как я при этом буду смотреться? А будет ли интересно? Не переборщила с фильтрами?».
Если вы тоже узнаёте себя, знайте: это нормально! Ведь в соцсетях мы не просто выкладываем фотки котиков (хотя, котики тоже важны), а рассказываем миру, кто мы есть.
Самопрезентация — это наше цифровое «я», которое живёт в профиле, отражая наши интересы, мысли и, да, иногда даже мечты. Но в ней есть свои тонкости, особенно когда хочется быть аутентичным: не только «покрасивее», но и настоящим.
Особенности: честность и стиль имеют значение
В социальных сетях я заметила один забавный парадокс: чем больше пытаешься выглядеть идеально, тем больше кажется, что это не ты. Вот почему я стараюсь говорить честно — не бояться показывать свои слабости, ошибки и просто нелепые моменты из жизни. Это не просто «лайкабельнее», это по-настоящему близко другому человеку.
Но честность — не повод выкидывать в сеть всё подряд.
Самопрезентация — это как создание маленькой книги о себе, где важно продумать и стиль, и содержание: шрифты, фотографии, тексты. Ведь и в жизни мы выбираем, что сказать о себе, когда знакомимся с новыми людьми, так почему в соцсетях должно быть иначе?
Немного моих лайфхаков
Самопрезентация — это не статичная «витрина», а живое полотно, на котором мы сами творим свой образ. Социальные сети дают нам невероятную возможность рассказать миру о себе без посредников. Главное — не забывать: во всем этом усердии быть видимым мы должны оставаться настоящими.
Каждый раз, когда я публикую пост или рассказываю о себе, внутри начинает такой небольшой «монолог»:
«А как это будет выглядеть? А как я при этом буду смотреться? А будет ли интересно? Не переборщила с фильтрами?».
Если вы тоже узнаёте себя, знайте: это нормально! Ведь в соцсетях мы не просто выкладываем фотки котиков (хотя, котики тоже важны), а рассказываем миру, кто мы есть.
Самопрезентация — это наше цифровое «я», которое живёт в профиле, отражая наши интересы, мысли и, да, иногда даже мечты. Но в ней есть свои тонкости, особенно когда хочется быть аутентичным: не только «покрасивее», но и настоящим.
Особенности: честность и стиль имеют значение
В социальных сетях я заметила один забавный парадокс: чем больше пытаешься выглядеть идеально, тем больше кажется, что это не ты. Вот почему я стараюсь говорить честно — не бояться показывать свои слабости, ошибки и просто нелепые моменты из жизни. Это не просто «лайкабельнее», это по-настоящему близко другому человеку.
Но честность — не повод выкидывать в сеть всё подряд.
Самопрезентация — это как создание маленькой книги о себе, где важно продумать и стиль, и содержание: шрифты, фотографии, тексты. Ведь и в жизни мы выбираем, что сказать о себе, когда знакомимся с новыми людьми, так почему в соцсетях должно быть иначе?
Немного моих лайфхаков
- Стараюсь использовать юмор. Это отличный способ привлечь внимание и показать свою индивидуальность.
- Стараюсь писать проще. Чем понятнее текст, тем больше людей его прочитают и поймут.
- Стараюсь быть последовательной. Если позиционируешь себя как писатель с лёгким юмором, не стоит внезапно превращаться в рецензента исключительно научных статей.
- Стараюсь быть более вариабельной. Ведь люди ценят разнообразие.
Самопрезентация — это не статичная «витрина», а живое полотно, на котором мы сами творим свой образ. Социальные сети дают нам невероятную возможность рассказать миру о себе без посредников. Главное — не забывать: во всем этом усердии быть видимым мы должны оставаться настоящими.
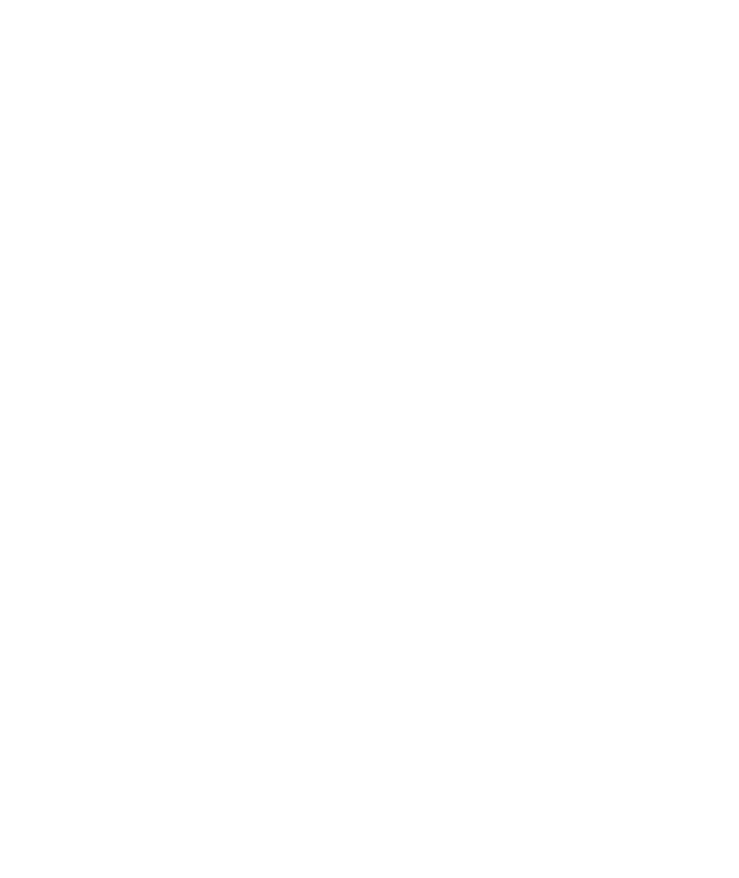
Психический инфантилизм
Психический инфантилизм — это довольно необычное состояние, которое, несмотря на звучное название, можно описать как сохранение или повторное проявление у взрослого человека детских черт мышления, эмоциональных реакций и поведения. По сути, это как если бы в душе взрослого всё ещё жил маленький ребёнок, со всеми его наивностью, непосредственностью и эмоциональной нестабильностью.
Главная особенность психического инфантилизма — снижение эмоциональной зрелости.
Взрослый человек ведёт себя импульсивно, иногда слишком наивно и, что называется медицинским языком, у него снижен критический взгляд на свои действия и окружающий мир. Мыслительные процессы при этом упрощены, чаще преобладает конкретное мышление, а вот абстрактные размышления и глубокая саморефлексия — в дефиците. Если перевести на понятный язык — таким людям сложно представить и оценить последствия своих поступков, они могут казаться эгоцентричными и зависимыми от окружающих. Ответственность? Она, как правило, не их конёк.
Причин у этого явления несколько. Это и
1) органические поражения головного мозга — например, травмы или нейродегенеративные заболевания, которые меняют работу нервной системы.
2) не стоит забывать и про психологические факторы: детство без должной поддержки, стрессовые ситуации или тяжелые переживания тоже могут привести к инфантилизму.
3) иногда это своего рода «защитная реакция» психики — чтобы справиться с внутренними конфликтами и стрессом, человек будто возвращается в более простое и безопасное состояние.
Психический инфантилизм серьёзно осложняет жизнь: трудности в общении, проблемы на работе, неправильное восприятие себя и других. Без поддержки и, иногда, лечения ситуация не улучшается, а значит необходим комплексный подход. Социальная поддержка даёт чувство защищённости, а при органических причинах, бывает, требуется терапия
Представьте себе взрослого человека, который в 30 лет капризно устраивает настоящий «истеричный марафон», если ему не понравилась еда в пиццерии. Он громко требует переделать блюдо и угрожает написать гневные отзывы. Это — маленький пример психического инфантилизма. Вместо того, чтобы спокойно объяснить официанту проблему и найти компромисс, он ведёт себя, как трёхлетка, которому не дали конфету.
Или представим другую ситуацию: коллега на работе постоянно перекладывает свои обязанности на других, потому что «сам с этим не справится», хотя у него всё достаточно просто. Он избегает ответственности и постоянно ищет, кто бы ему помог в решении, будто бы он снова школьник, который боится контрольной. Такое поведение тоже может быть проявлением психического инфантилизма — когда человек не хочет или не умеет брать ответственность за свои дела.
.
В итоге психический инфантилизм — это не просто «детская душа» в теле взрослого, а вполне реальное нарушение психического развития. Однако при своевременном выявлении и грамотном отношении можно существенно улучшить качество жизни таких людей. Так что, если вы заметили кто-то из близких демонстрирует признаки инфантилизма — не игнорируйте это, а помогите ему. Чем можете спасти его и улучшить жизнь себе.
Ведь именно поддержка «взрослых» помогает вырасти «ребёнку» по-настоящему.
Главная особенность психического инфантилизма — снижение эмоциональной зрелости.
Взрослый человек ведёт себя импульсивно, иногда слишком наивно и, что называется медицинским языком, у него снижен критический взгляд на свои действия и окружающий мир. Мыслительные процессы при этом упрощены, чаще преобладает конкретное мышление, а вот абстрактные размышления и глубокая саморефлексия — в дефиците. Если перевести на понятный язык — таким людям сложно представить и оценить последствия своих поступков, они могут казаться эгоцентричными и зависимыми от окружающих. Ответственность? Она, как правило, не их конёк.
Причин у этого явления несколько. Это и
1) органические поражения головного мозга — например, травмы или нейродегенеративные заболевания, которые меняют работу нервной системы.
2) не стоит забывать и про психологические факторы: детство без должной поддержки, стрессовые ситуации или тяжелые переживания тоже могут привести к инфантилизму.
3) иногда это своего рода «защитная реакция» психики — чтобы справиться с внутренними конфликтами и стрессом, человек будто возвращается в более простое и безопасное состояние.
Психический инфантилизм серьёзно осложняет жизнь: трудности в общении, проблемы на работе, неправильное восприятие себя и других. Без поддержки и, иногда, лечения ситуация не улучшается, а значит необходим комплексный подход. Социальная поддержка даёт чувство защищённости, а при органических причинах, бывает, требуется терапия
Представьте себе взрослого человека, который в 30 лет капризно устраивает настоящий «истеричный марафон», если ему не понравилась еда в пиццерии. Он громко требует переделать блюдо и угрожает написать гневные отзывы. Это — маленький пример психического инфантилизма. Вместо того, чтобы спокойно объяснить официанту проблему и найти компромисс, он ведёт себя, как трёхлетка, которому не дали конфету.
Или представим другую ситуацию: коллега на работе постоянно перекладывает свои обязанности на других, потому что «сам с этим не справится», хотя у него всё достаточно просто. Он избегает ответственности и постоянно ищет, кто бы ему помог в решении, будто бы он снова школьник, который боится контрольной. Такое поведение тоже может быть проявлением психического инфантилизма — когда человек не хочет или не умеет брать ответственность за свои дела.
.
В итоге психический инфантилизм — это не просто «детская душа» в теле взрослого, а вполне реальное нарушение психического развития. Однако при своевременном выявлении и грамотном отношении можно существенно улучшить качество жизни таких людей. Так что, если вы заметили кто-то из близких демонстрирует признаки инфантилизма — не игнорируйте это, а помогите ему. Чем можете спасти его и улучшить жизнь себе.
Ведь именно поддержка «взрослых» помогает вырасти «ребёнку» по-настоящему.
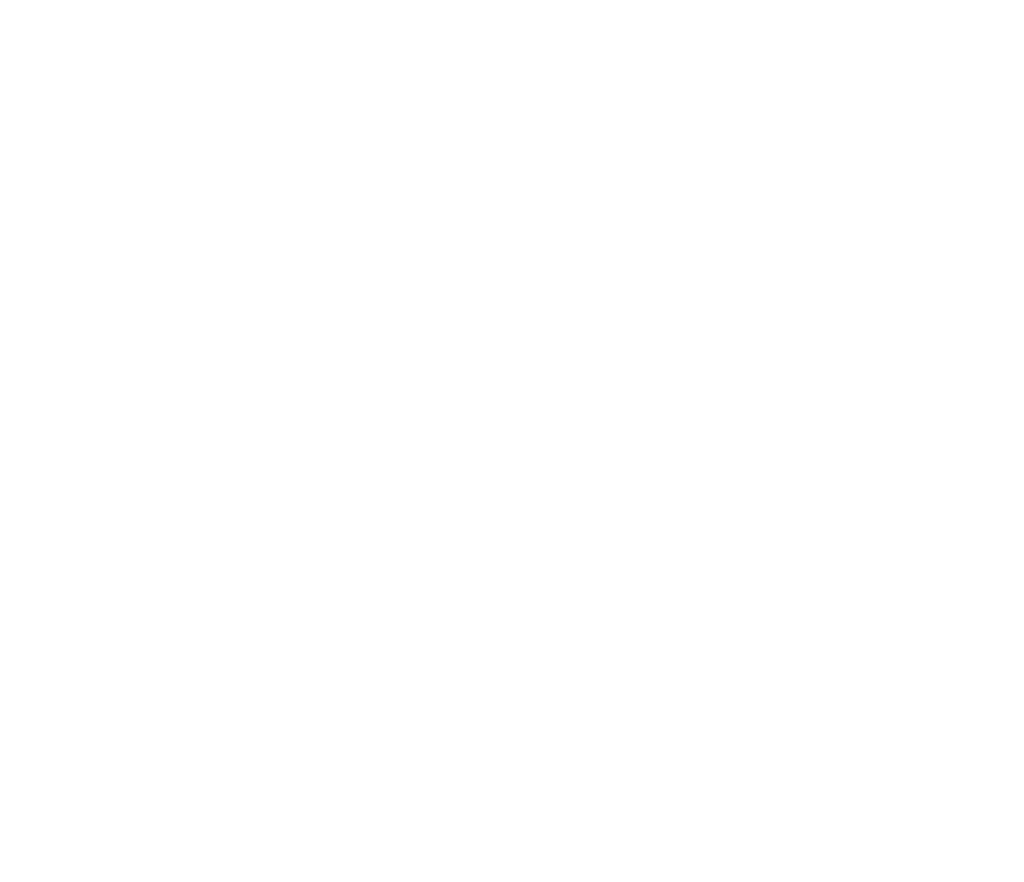
Возможно, мошенники?
Звонок прозвучал слишком резко и неожиданно, в трубке раздался мягкий, приятный голос девушки.
— Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я представляю компанию “Аналитика Онлайн”. (к примеру, я не запомнила название, если честно)
Продолжает:
— Удобно ли вам сейчас поговорить?
Подождала, пока я отвечу. Предполагался ответ желательно «ДА», но у меня правило №1:
«Я никогда не говорю по телефону слово «да»
Всё, что угодно: «слушаю вас», «однако», «неужели», всё, что подходит по контексту, но не «да»!
В данном случае я просто промолчала, ожидая, что в скором времени девушка опять заговорит. И я не ошиблась.
— Лидия, мы проводим короткий опрос, ваше мнение очень важно!
Сразу «резануло слух, что она назвала меня по имени. Спросить нужно, но стараюсь говорить максимально короткими фразами, потому что моё правило №2:
«Если есть какие-то подозрения по поводу звонящего, чем короче моя фраза, тем безопаснее»
— Откуда знаете имя? – говорю максимально без эмоций.
— О, извините, это стандартная база данных наших клиентов. Ваше имя — Лидия, правильно?
Опять вызывает на ответ «Да». Молча жду продолжения. Девушка Ольга понимает, что я не отвечу, продолжает дальше:
— Наш опрос очень короткий, буквально несколько простых вопросов, это не займёт много времени, но отвечать вы должны сразу, иначе данные могут быть неактуальными.
Хм… Включился анализ:
«Вроде бы всё ясно и просто – обычный телефонный опрос. Настораживает несколько моментов:
1) Ольга знает моё имя
2) идут вопросы, которые подразумевают ответ «да» (в случае с именем, ответ должен быть категорично утвердительным)
3) все слишком просто: просто несколько вопросов, просто несколько минуточек, просто вопросики несложные)
4) нужно отвечать сразу, прямо сейчас, то есть быстро
Всё это проносится у меня в голове моментально, я скидываю звонок.
Почему? Потому что подозрительного в этом звонке больше, чем положительного.
Да, возможно, это действительно был оператор, проводящий опросы, а может быть и нет. Не хочется как-то попасться на «удочку» мошенников!
— Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я представляю компанию “Аналитика Онлайн”. (к примеру, я не запомнила название, если честно)
Продолжает:
— Удобно ли вам сейчас поговорить?
Подождала, пока я отвечу. Предполагался ответ желательно «ДА», но у меня правило №1:
«Я никогда не говорю по телефону слово «да»
Всё, что угодно: «слушаю вас», «однако», «неужели», всё, что подходит по контексту, но не «да»!
В данном случае я просто промолчала, ожидая, что в скором времени девушка опять заговорит. И я не ошиблась.
— Лидия, мы проводим короткий опрос, ваше мнение очень важно!
Сразу «резануло слух, что она назвала меня по имени. Спросить нужно, но стараюсь говорить максимально короткими фразами, потому что моё правило №2:
«Если есть какие-то подозрения по поводу звонящего, чем короче моя фраза, тем безопаснее»
— Откуда знаете имя? – говорю максимально без эмоций.
— О, извините, это стандартная база данных наших клиентов. Ваше имя — Лидия, правильно?
Опять вызывает на ответ «Да». Молча жду продолжения. Девушка Ольга понимает, что я не отвечу, продолжает дальше:
— Наш опрос очень короткий, буквально несколько простых вопросов, это не займёт много времени, но отвечать вы должны сразу, иначе данные могут быть неактуальными.
Хм… Включился анализ:
«Вроде бы всё ясно и просто – обычный телефонный опрос. Настораживает несколько моментов:
1) Ольга знает моё имя
2) идут вопросы, которые подразумевают ответ «да» (в случае с именем, ответ должен быть категорично утвердительным)
3) все слишком просто: просто несколько вопросов, просто несколько минуточек, просто вопросики несложные)
4) нужно отвечать сразу, прямо сейчас, то есть быстро
Всё это проносится у меня в голове моментально, я скидываю звонок.
Почему? Потому что подозрительного в этом звонке больше, чем положительного.
Да, возможно, это действительно был оператор, проводящий опросы, а может быть и нет. Не хочется как-то попасться на «удочку» мошенников!
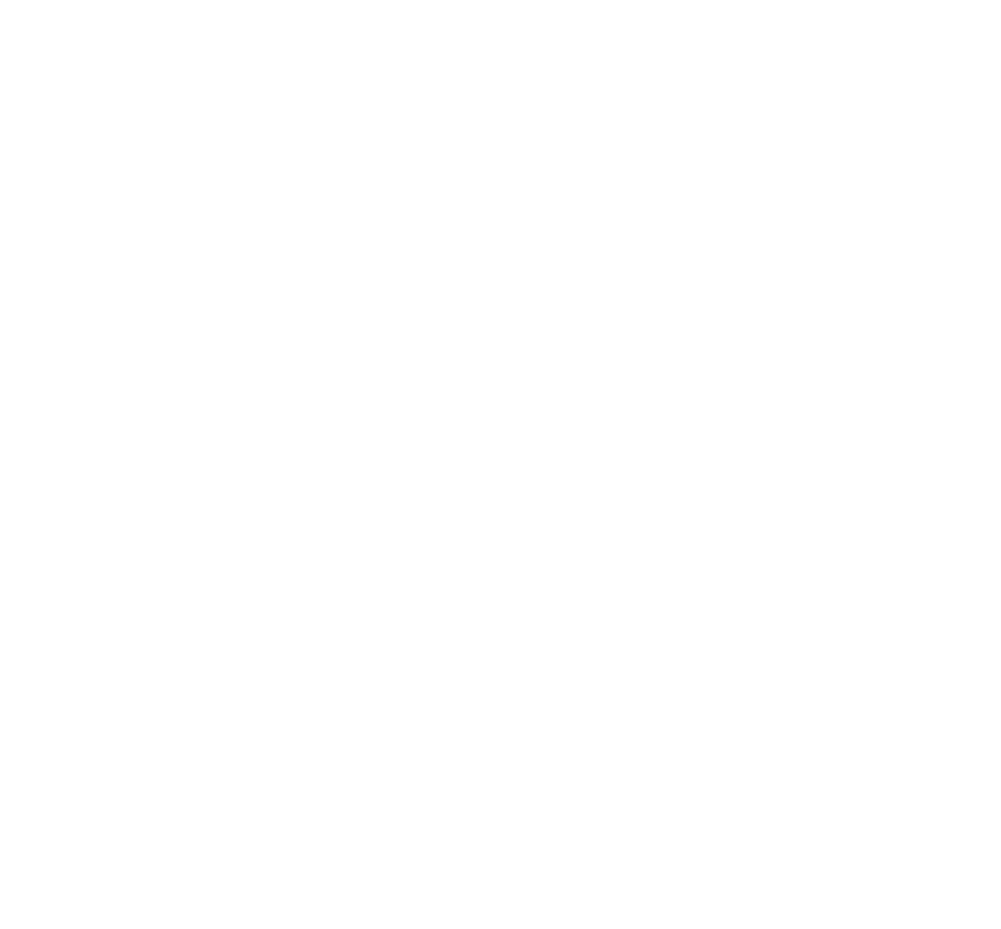
Ружья в карманах и загадочные улыбки
Интрига 1
И что это получилось: эссе или статья?
Этот текст вроде бы наиболее подходит под категорию эссе, возможно, с лёгким оттенком юмора. Также здесь сочетается анализ знаменитой картины с мягким и ироничным стилем, что делает его доступным и интересным.
Я старалась связать художественные элементы картины с современными реалиями и восприятиями, что также характерно для эссе.
Таким образом, данная моя проза — это такое расширенное творческое эссе, которое успешно соединяет условный искусствоведческий анализ с непринужденной подачей.
Интрига 2
Почему именно такое название?
Да потому, что оно подходит под описание выбранной мной картины по нескольким причинам сразу.
Интрига 3
Почему именно эта картина?
Я решила создать описание этой знаменитой картины, потому что её все знают. Это не просто всемирно известное произведение живописи, а целая легенда, обладающая своей уникальной магией. Она вызывает в людях бесконечное количество вопросов и размышлений, и именно это меня и вдохновило.
Кроме того, данное произведение искусства символизирует целую эпоху и школу, со своими традициями и секретами.
Создавая описание, я хотела передать не только визуальную красоту, но и ту атмосферу интриги, которая окружает это произведение. Каждый штрих и каждая деталь полны значимости. В конце концов, благодаря таким произведениям мы расширяем свои горизонты и погружаемся в мир, где рождаются эмоции, идеи и глубокие размышления. Как у меня, например.
Каждому, кто когда-либо изучал живопись, известно, что это не просто картина. Это настоящая икона, но давайте отложим высокую эстетику и посмотрим на неё взглядом обычного человека. А что мы сразу видим, глядя на картину? Правильно, её центр. И там у нас расположена фигура главного персонажа.
Сидит, как будто только что было приглашение на вечернюю чашечку чая или рассказ про все секреты мироздания. Расположение фигуры создает наглядное чувство динамики — да-да, не просто сидит, а словно вот-вот встанет и пойдёт на прогулку! Руки удобно сложены на коленях, и это, очевидно, говорит о уверенности и спокойствии. Скажем так, создаётся впечатление, что этот человек не из тех, кто будет излишне суетиться в соцсетях.
Далее обращаем внимание на лицо. На лице мягкая улыбка. Именно «мягкая», как я это вижу, и эти чуть заметные ямочки на щеках - истинный шедевр, который вызывает споры с незапамятных времён у практически всех критиков. Кажется, тот, кто нарисован, знает что-то такое, что нам с вами никогда не узнать! Улыбается так, будто знает тайну возникновения вселенной, или открылся смысл жизни. Это не просто улыбка — это улыбка веков!
При этом глаза словно следят за вами, как будто знают не только тайну вселенной, но и все ваши секреты. Это создаёт эффект самого настоящего зрительного взаимодействия, получается, что картина как бы живёт своей жизнью, насмехается над всеми: «Пока вы тут в своей реальности, я — вечная загадка!»
Теперь о прическе. У меня возник следующий вопрос: «Почему у всех в ту эпоху волосы были такие длинные?» Дань моде? Растянутые вдоль лица волосы – своеобразный завуалированный шик, прямая и аккуратная укладка, естественная текстура, что является отдельной причиной для восхищения.
От лица взгляд опускается далее. На персонаже простое тёмное одеяние в средневековом стиле с тонкими складками. Нет никаких блестящих украшений, что свидетельствует о простоте, как будто говоря: «Я не нуждаюсь в драгоценностях; у меня есть моя тайна!» В социальных сетях она бы точно была противницей излишества и «показушного» шика.
И да, сейчас была конкретная подсказка от меня, но, я думаю, уже и так многие подозревают или знают, что это за всемирный шедевр. А я пока продолжаю описывать то, что вижу.
Теперь немного о цветовой палитре и фоне картины.
Цвета на её лице ощущаются мной как приветствие от теплого осеннего дня, созданные мастером живописи с помощью определённой техники. Когда-то я училась в художественной школе и, если мне не изменяет память, эта техника называется «сфумато», когда краски мягко смешиваются, создавая ту самую загадочную ауру. Если бы у её выражения (именно у выражения лица, а не у самого персонажа) был свой Instagram, оно точно бы собирало лайки, а мы бы все искренне удивлялись, как так удается выглядеть одновременно умиротворенной и загадочной.
Мой взгляд скользит за фигуру. Фон картины украшен изумительным гористым ландшафтом, который уходит вдаль. Все штрихи нанесены с помощью той же техники «сфумато», всё как бы в тени и слегка размыто. Что касается света, то создаётся эффект плавного перехода от тени к более светлым тонам.
Река, хорошо протоптанные дороги в фоне выглядят очень реалистично. Природа воспринимается как отражение внутреннего состояния самого персонажа. Если бы горы могли говорить, то, вероятно, они бы признались, что «Сегодня у нас был трудный день, но давайте просто улыбнёмся!» Это как своеобразный манифест эмпатии.
Так вот, из данного портрета (а, я думаю, и так уже понятно, что данный шедевр – это портрет) можно даже постараться извлечь элементарные уроки поведения:
1) сохранять спокойствие всегда и везде,
2) быть собранными и
3) всегда готовыми к неожиданностям.
Забудьте о стрессе и подумайте о том, как было бы просто наслаждаться вечерним временем в хорошей компании.
Или даже так: если жизнь упорно угощает вас лимонами, мучайте их с ненавязчивой улыбкой, пока кто-то не заметит и не предложит вам мороженое (или купите мороженое сами).
Как говаривал Конфуций, «научитесь принимать жизнь с лёгкостью».
Думаю, все уже догадались о каком шедевре живописи идёт речь. Конечно же, это «Джоконда» Леонардо да Винчи.
Да, «Джоконда», или «Мона Лиза», является одним из самых известных художественных произведений в мире и многими считается главным символом искусства Ренессанса. Она стала не только иконой живописи, но и культурным феноменом. Почему?
Художественные критики склоняются к тому, что этому способствовало несколько причин.
И что это получилось: эссе или статья?
Этот текст вроде бы наиболее подходит под категорию эссе, возможно, с лёгким оттенком юмора. Также здесь сочетается анализ знаменитой картины с мягким и ироничным стилем, что делает его доступным и интересным.
Я старалась связать художественные элементы картины с современными реалиями и восприятиями, что также характерно для эссе.
Таким образом, данная моя проза — это такое расширенное творческое эссе, которое успешно соединяет условный искусствоведческий анализ с непринужденной подачей.
Интрига 2
Почему именно такое название?
Да потому, что оно подходит под описание выбранной мной картины по нескольким причинам сразу.
- Загадочность улыбки как символ неясности или скрытых эмоций, как тайна, которая окружает персонажа картины.
- "Ружья в карманах" – это символ, а в контексте данной картины это указывает на сложность человеческой природы и внутренние конфликты, которые могут скрываться за внешним спокойствием и привлекательностью. Такое сочетание намекает на то, что даже в самых спокойных и приятных образах может скрываться нечто более глубокое и тревожное. Это как возможная гипотеза.
- Картина была написана в эпоху, насыщенную социальными и политическими переменами. "Ружья в карманах" могут восприниматься как метафора общества, в котором насилие и конфликт сосуществуют с красотой и искусством. Это как раз отражает дух того времени.
Интрига 3
Почему именно эта картина?
Я решила создать описание этой знаменитой картины, потому что её все знают. Это не просто всемирно известное произведение живописи, а целая легенда, обладающая своей уникальной магией. Она вызывает в людях бесконечное количество вопросов и размышлений, и именно это меня и вдохновило.
Кроме того, данное произведение искусства символизирует целую эпоху и школу, со своими традициями и секретами.
Создавая описание, я хотела передать не только визуальную красоту, но и ту атмосферу интриги, которая окружает это произведение. Каждый штрих и каждая деталь полны значимости. В конце концов, благодаря таким произведениям мы расширяем свои горизонты и погружаемся в мир, где рождаются эмоции, идеи и глубокие размышления. Как у меня, например.
Каждому, кто когда-либо изучал живопись, известно, что это не просто картина. Это настоящая икона, но давайте отложим высокую эстетику и посмотрим на неё взглядом обычного человека. А что мы сразу видим, глядя на картину? Правильно, её центр. И там у нас расположена фигура главного персонажа.
Сидит, как будто только что было приглашение на вечернюю чашечку чая или рассказ про все секреты мироздания. Расположение фигуры создает наглядное чувство динамики — да-да, не просто сидит, а словно вот-вот встанет и пойдёт на прогулку! Руки удобно сложены на коленях, и это, очевидно, говорит о уверенности и спокойствии. Скажем так, создаётся впечатление, что этот человек не из тех, кто будет излишне суетиться в соцсетях.
Далее обращаем внимание на лицо. На лице мягкая улыбка. Именно «мягкая», как я это вижу, и эти чуть заметные ямочки на щеках - истинный шедевр, который вызывает споры с незапамятных времён у практически всех критиков. Кажется, тот, кто нарисован, знает что-то такое, что нам с вами никогда не узнать! Улыбается так, будто знает тайну возникновения вселенной, или открылся смысл жизни. Это не просто улыбка — это улыбка веков!
При этом глаза словно следят за вами, как будто знают не только тайну вселенной, но и все ваши секреты. Это создаёт эффект самого настоящего зрительного взаимодействия, получается, что картина как бы живёт своей жизнью, насмехается над всеми: «Пока вы тут в своей реальности, я — вечная загадка!»
Теперь о прическе. У меня возник следующий вопрос: «Почему у всех в ту эпоху волосы были такие длинные?» Дань моде? Растянутые вдоль лица волосы – своеобразный завуалированный шик, прямая и аккуратная укладка, естественная текстура, что является отдельной причиной для восхищения.
От лица взгляд опускается далее. На персонаже простое тёмное одеяние в средневековом стиле с тонкими складками. Нет никаких блестящих украшений, что свидетельствует о простоте, как будто говоря: «Я не нуждаюсь в драгоценностях; у меня есть моя тайна!» В социальных сетях она бы точно была противницей излишества и «показушного» шика.
И да, сейчас была конкретная подсказка от меня, но, я думаю, уже и так многие подозревают или знают, что это за всемирный шедевр. А я пока продолжаю описывать то, что вижу.
Теперь немного о цветовой палитре и фоне картины.
Цвета на её лице ощущаются мной как приветствие от теплого осеннего дня, созданные мастером живописи с помощью определённой техники. Когда-то я училась в художественной школе и, если мне не изменяет память, эта техника называется «сфумато», когда краски мягко смешиваются, создавая ту самую загадочную ауру. Если бы у её выражения (именно у выражения лица, а не у самого персонажа) был свой Instagram, оно точно бы собирало лайки, а мы бы все искренне удивлялись, как так удается выглядеть одновременно умиротворенной и загадочной.
Мой взгляд скользит за фигуру. Фон картины украшен изумительным гористым ландшафтом, который уходит вдаль. Все штрихи нанесены с помощью той же техники «сфумато», всё как бы в тени и слегка размыто. Что касается света, то создаётся эффект плавного перехода от тени к более светлым тонам.
Река, хорошо протоптанные дороги в фоне выглядят очень реалистично. Природа воспринимается как отражение внутреннего состояния самого персонажа. Если бы горы могли говорить, то, вероятно, они бы признались, что «Сегодня у нас был трудный день, но давайте просто улыбнёмся!» Это как своеобразный манифест эмпатии.
Так вот, из данного портрета (а, я думаю, и так уже понятно, что данный шедевр – это портрет) можно даже постараться извлечь элементарные уроки поведения:
1) сохранять спокойствие всегда и везде,
2) быть собранными и
3) всегда готовыми к неожиданностям.
Забудьте о стрессе и подумайте о том, как было бы просто наслаждаться вечерним временем в хорошей компании.
Или даже так: если жизнь упорно угощает вас лимонами, мучайте их с ненавязчивой улыбкой, пока кто-то не заметит и не предложит вам мороженое (или купите мороженое сами).
Как говаривал Конфуций, «научитесь принимать жизнь с лёгкостью».
Думаю, все уже догадались о каком шедевре живописи идёт речь. Конечно же, это «Джоконда» Леонардо да Винчи.
Да, «Джоконда», или «Мона Лиза», является одним из самых известных художественных произведений в мире и многими считается главным символом искусства Ренессанса. Она стала не только иконой живописи, но и культурным феноменом. Почему?
Художественные критики склоняются к тому, что этому способствовало несколько причин.
- Пресловутая загадочная улыбка стала символом тайны и неоднозначности. Она вызывает различные интерпретации и эмоции, что делает её отражением человеческой природы — многослойной и сложной. Эта улыбка стала метафорой для обсуждений различных тем о счастье, внутреннем покое и даже обмане.
- Эстетика Ренессанса, ведь картина отражает достижения искусства и науки своего времени. Использование техники живописи Леонардо да Винчи создает эффект глубины и объема, замыкая зрителя в мире гармонии и красоты. В этом смысле «Джоконда» является символом поиска идеала и совершенства.
- Секреты и тайны, ведь ведутся бесконечные споры и создаются всё новые теории о том, что делает Джоконду символом вечного поиска знаний и истин. Она напоминает о том, что не все можно объяснить.
- Феномен культуры: Джоконда стала не только предметом восхищения среди искусствоведов, но и в массовой среде. Её образ используется в рекламе, моде и даже музыке. Это указывает на то, как искусство может влиять на общество и как оно остается актуальным через века.
- Призыв к саморефлексии - одна улыбка и взгляд чего стоят! Они могут быть восприняты как приглашение к размышлениям о собственных чувствах и переживаниях. Или задуматься о том, что зритель видит в её выражении.
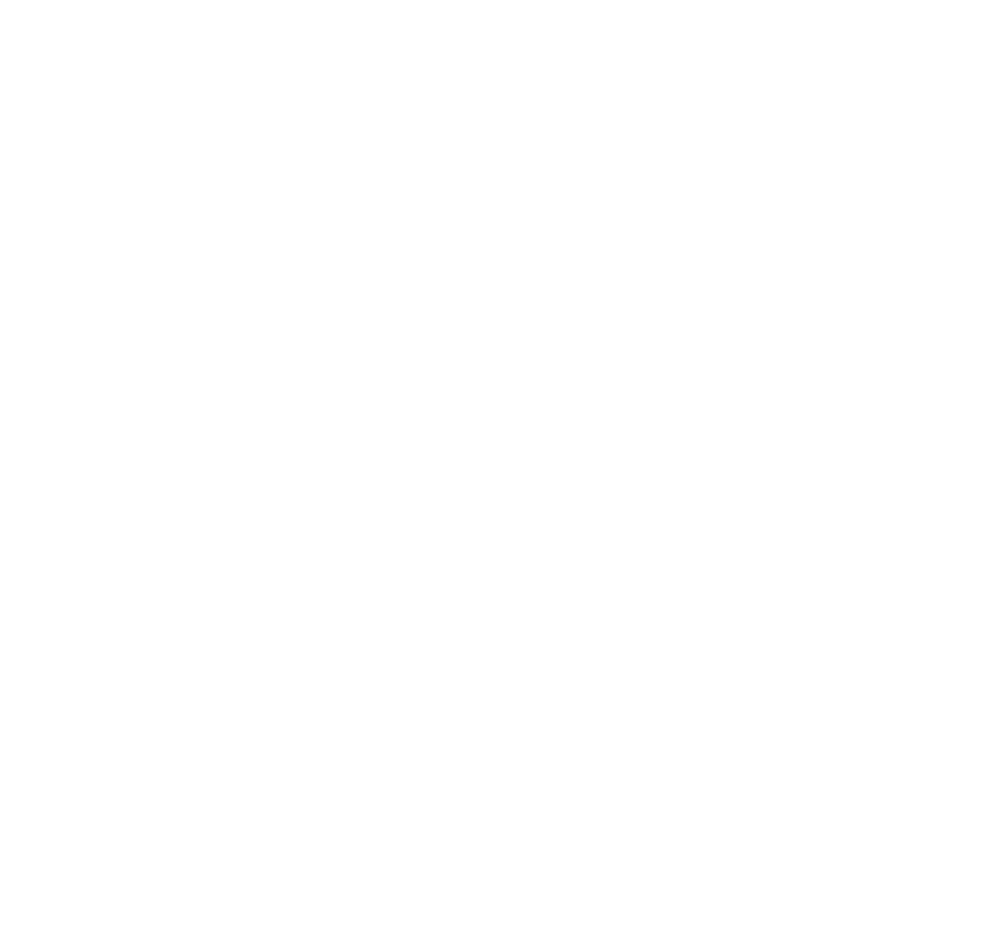
Путешествие через Время: 32 года вместе
Когда у нас был юбилей, 30-летие совместной жизни, у меня ещё не было этого сайта. Сегодня, 21 августа 2025 года, в наш неюбилей, хочу написать свои размышления по поводу данной даты.
32 года. Много это или мало? В голове возникают образы, которые крутятся, как киноплёнка, показывая момент за моментом: наше знакомство, разговоры по телефону, первое свидание, встречи, свадьба, рождение детей, переезды, дни, полные смеха и слёз. Это не просто число; это целая эпоха, насыщенная переживаниями, радостью и трудностями. Каждый год из этих 32 можно рассматривать как отдельный камешек в мозаике, создающей картину нашей жизни.
Первый год был полон романтики — ухаживания, вечерние прогулки. Это время, когда мы открывали друг друга, как странички книги. Мы изучали предпочтения, привычки, делились мечтами. На каждом шагу возникали новые эмоции, а всё происходящее казалось волшебным.
Однако, как известно, «пока всё хорошо — не хорошо». Со временем стали проявляться и трудности: вопросы быта, финансовые нюансы, разные взгляды на некоторые вопросы . Мы учились, стремились быть терпимыми и находить компромиссы. Мы научились ссориться — а потом прощать, и это стало основой нашей любви.
Неизменным аспектом нашей жизни стало рождение детей. 2 сына. Они принесли с собой новый уровень счастья и ответственности. Каждый их шаг, каждое слово было для нас большим событием. Мы стали родителями, а это уже совсем другая история. Порой у нас не оставалось времени друг на друга, но мы, опять же, находили компромиссы.
На протяжении всех этих лет мы научились ценить простые радости: совместные ужины, поездки вместе, хоть куда, занятия хобби. Мы поняли, что любовь — это не только страсть, но и ежедневная забота о друг друге. Это понимание стало основой нашего совместного существования. Мы смеёмся, превращая трудные моменты в забавные истории, о которых впоследствии сможем рассказывать.
Теперь, оглядываясь на пройденный путь, я понимаю, что 32 года в браке — это не просто цифра. Это наша жизнь, насыщенная эмоциями и уроками. Мы научились не только любить, но и уважать, ценить и понимать друг друга, хоть во вмогом наши взгляды на многие вещи и расходятся.
Любовь в браке — это как хорошая книга: чем больше читаешь, тем интереснее становится. Вместе нам по плечу всё — и радости, и невзгоды.
Каждый день вместе — это подарок, и нет ничего важнее, чем умение ценить эти минуты и часы, которые в конечном итоге складываются в тихое семейное счастье.
Вот и сейчас я пишу эти строки, а ты на кухне делаешь сам для нас суши. Спасибо.
32 года. Много это или мало? В голове возникают образы, которые крутятся, как киноплёнка, показывая момент за моментом: наше знакомство, разговоры по телефону, первое свидание, встречи, свадьба, рождение детей, переезды, дни, полные смеха и слёз. Это не просто число; это целая эпоха, насыщенная переживаниями, радостью и трудностями. Каждый год из этих 32 можно рассматривать как отдельный камешек в мозаике, создающей картину нашей жизни.
Первый год был полон романтики — ухаживания, вечерние прогулки. Это время, когда мы открывали друг друга, как странички книги. Мы изучали предпочтения, привычки, делились мечтами. На каждом шагу возникали новые эмоции, а всё происходящее казалось волшебным.
Однако, как известно, «пока всё хорошо — не хорошо». Со временем стали проявляться и трудности: вопросы быта, финансовые нюансы, разные взгляды на некоторые вопросы . Мы учились, стремились быть терпимыми и находить компромиссы. Мы научились ссориться — а потом прощать, и это стало основой нашей любви.
Неизменным аспектом нашей жизни стало рождение детей. 2 сына. Они принесли с собой новый уровень счастья и ответственности. Каждый их шаг, каждое слово было для нас большим событием. Мы стали родителями, а это уже совсем другая история. Порой у нас не оставалось времени друг на друга, но мы, опять же, находили компромиссы.
На протяжении всех этих лет мы научились ценить простые радости: совместные ужины, поездки вместе, хоть куда, занятия хобби. Мы поняли, что любовь — это не только страсть, но и ежедневная забота о друг друге. Это понимание стало основой нашего совместного существования. Мы смеёмся, превращая трудные моменты в забавные истории, о которых впоследствии сможем рассказывать.
Теперь, оглядываясь на пройденный путь, я понимаю, что 32 года в браке — это не просто цифра. Это наша жизнь, насыщенная эмоциями и уроками. Мы научились не только любить, но и уважать, ценить и понимать друг друга, хоть во вмогом наши взгляды на многие вещи и расходятся.
Любовь в браке — это как хорошая книга: чем больше читаешь, тем интереснее становится. Вместе нам по плечу всё — и радости, и невзгоды.
Каждый день вместе — это подарок, и нет ничего важнее, чем умение ценить эти минуты и часы, которые в конечном итоге складываются в тихое семейное счастье.
Вот и сейчас я пишу эти строки, а ты на кухне делаешь сам для нас суши. Спасибо.
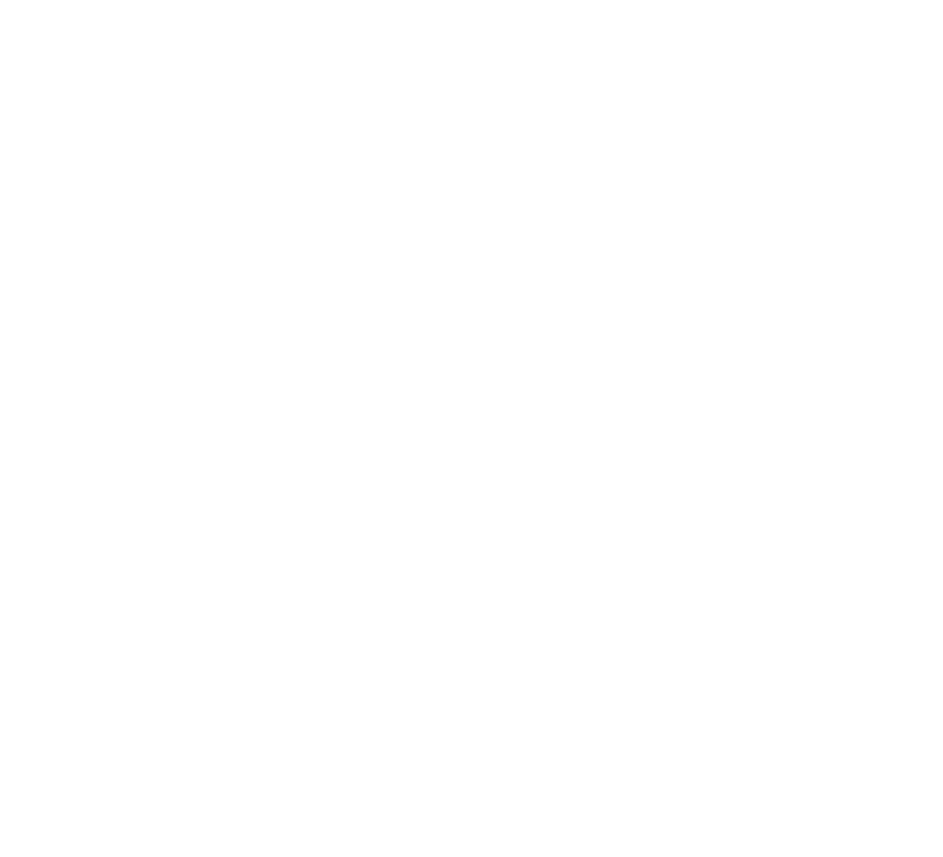
Крик души
В последнее время как-то часто стала замечать детские истерики на улице, в магазинах, на детских площадках. Что со мной? Стало больше капризных детей или я начала обращать внимание на такие ситуации? Да и простые капризы ли это? Чем отличается обычный каприз ребёнка от полноценной истерики?
Нет, я не буду сейчас писать очередную статью на тему «Детская истерика: причины, клиника, лечение», не собираюсь никого учить жить. И это в принципе не статья, а мои рассуждения, мысли, выложенные «в цифру».
Я вырастила 2 сыновей - сейчас они уже взрослые, живут отдельно.
И когда я наблюдаю на улицах истерические крики и дёргания других детей, я думаю: а ведь у нас, когда мальчики были маленькие, не было истерик! Ни одной, ни при каких обстоятельствах. Да, порой, мои пацаны тоже хотели чего-то вкусненького, или новенькую игрушку, или пойти поиграть куда-то конкретно. Но истерик никогда не устраивали.
Я начала думать и анализировать почему так произошло у нас в семье, и почему совсем другая картина в некоторых других ячейках нашего общества. За других не скажу, можно только предполагать, но «пусковые механизмы» в семье, где происходят детские истерики обязательно присутствуют. Ничего никогда не бывает на пустом месте. Просто проанализирую, как происходило общение с сыновьями у меня.
Это не потому, что я какая-то особенная. Возможно, мне помогло моё медицинское образование и знание психологии (изучала клиническую психологию, но всё же). Это стало своеобразной лупой, через которую я могла рассмотреть, что происходит внутри ребёнка, когда он готов «взорваться». И моя задача была — не «переждать» эти взрывы, а не дать им зажечься.
Что я для этого делала? Конкретные ситуации из жизни не помню, потому что их вроде бы и не было. Просто поразмышляю.
Мы, взрослые, часто путаем два явления: аффективный взрыв (эмоциональная перегрузка) и истерику как форму манипуляции*. Я училась различать их по тонким признакам: направление взгляда, тонус мышц, дыхание. Но главное — по тому, что стоит за ними: бессилие или попытка контроля.
И ещё: стараться смотреть на ситуацию глазами ребёнка. Ни в коем случае не кричать. Это табу.
Когда тебе два года и говорят «нельзя», ты не «устраиваешь истерику», ты переживает катастрофу: мир перестаёт быть предсказуемым. Это не каприз, это паническая атака в миниатюре.
Для наглядности и понимания самой себя упорядочила всё по пунктам:
Во многих случаях мы договаривались. Именно договаривались, не торговались! Что-то типа:
«Ты хочешь конфету. Я хочу, чтобы у тебя были зубы. Давай найдём компромисс. Может, съедим половинку после ужина?»
И ещё. Я не «воспитала детей без истерик». Я просто не дала себе забыть, что когда-то и я сама была маленькой и хотела, чтобы меня услышали.
Визуально они могут быть похожи (слёзы, крик, возбуждённое состояние), но их "двигатели" совершенно разные.
1. Аффективный взрыв (Эмоциональная перегрузка)
Это непроизвольная, истекающая реакция на переполнение негативными эмоциями.
2. Истерика как форма манипуляции
Это произвольное (хотя иногда и не до конца осознаваемое) поведение, направленное на достижение конкретной цели.
Сводная таблица для сравнения
Важный нюанс: Иногда поведение может быть смешанным. Человек может искренне страдать (аффект), но неосознанно использовать привычные манипулятивные стратегии, чтобы справиться с этим страданием. Разграничить это бывает в обычной жизни очень сложно.
Нет, я не буду сейчас писать очередную статью на тему «Детская истерика: причины, клиника, лечение», не собираюсь никого учить жить. И это в принципе не статья, а мои рассуждения, мысли, выложенные «в цифру».
Я вырастила 2 сыновей - сейчас они уже взрослые, живут отдельно.
И когда я наблюдаю на улицах истерические крики и дёргания других детей, я думаю: а ведь у нас, когда мальчики были маленькие, не было истерик! Ни одной, ни при каких обстоятельствах. Да, порой, мои пацаны тоже хотели чего-то вкусненького, или новенькую игрушку, или пойти поиграть куда-то конкретно. Но истерик никогда не устраивали.
Я начала думать и анализировать почему так произошло у нас в семье, и почему совсем другая картина в некоторых других ячейках нашего общества. За других не скажу, можно только предполагать, но «пусковые механизмы» в семье, где происходят детские истерики обязательно присутствуют. Ничего никогда не бывает на пустом месте. Просто проанализирую, как происходило общение с сыновьями у меня.
Это не потому, что я какая-то особенная. Возможно, мне помогло моё медицинское образование и знание психологии (изучала клиническую психологию, но всё же). Это стало своеобразной лупой, через которую я могла рассмотреть, что происходит внутри ребёнка, когда он готов «взорваться». И моя задача была — не «переждать» эти взрывы, а не дать им зажечься.
Что я для этого делала? Конкретные ситуации из жизни не помню, потому что их вроде бы и не было. Просто поразмышляю.
Мы, взрослые, часто путаем два явления: аффективный взрыв (эмоциональная перегрузка) и истерику как форму манипуляции*. Я училась различать их по тонким признакам: направление взгляда, тонус мышц, дыхание. Но главное — по тому, что стоит за ними: бессилие или попытка контроля.
И ещё: стараться смотреть на ситуацию глазами ребёнка. Ни в коем случае не кричать. Это табу.
Когда тебе два года и говорят «нельзя», ты не «устраиваешь истерику», ты переживает катастрофу: мир перестаёт быть предсказуемым. Это не каприз, это паническая атака в миниатюре.
Для наглядности и понимания самой себя упорядочила всё по пунктам:
- Распознавание. Я замечала, когда глаза малыша начинали «застекленевать» — первый признак перегрузки. В этот момент я не ждала взрыва, а присаживалась на его уровень, касалась руки и говорила что-то вроде: «Я вижу, понимаю, тебе тяжело.». И переключала на что-то другое.
- Сенсорная безопасность. Я никогда не брала детей в супермаркеты в часы пик. Знаете, почему? Потому что дети часто реагируют на перегрузку светом и звуком так же, как и на запрет, нервная система у всех малышей не такая крепкая, как у взрослых. Поэтому мы ходили в магазин либо утром, либо в будни, когда меньше людей. И всегда брали с собой какую-нибудь «походную» игрушку.
- Ритуалы. Мы всегда заканчивали день одинаково: душ, рассказ о том, что было хорошего. Даже если день был плохой. Особенно если был плохой. Потому что ребёнку нужна точка опоры. И доверие.
- Моё собственное состояние. Я никогда не показывала детям своё плохое настроение. Я училась ставить себя на паузу. Потому что дети считывают настроение лучше любых датчиков. И мне удавалось, да так, что долгое время мои сыновья считали меня неисправимой оптимисткой.
Во многих случаях мы договаривались. Именно договаривались, не торговались! Что-то типа:
«Ты хочешь конфету. Я хочу, чтобы у тебя были зубы. Давай найдём компромисс. Может, съедим половинку после ужина?»
Главное, что я хочу сказать:
Истерика — это не про ребёнка. Это про нас.
Про наше терпение, наше умение быть зеркалом, в котором ребёнок видит будущего себя.И ещё. Я не «воспитала детей без истерик». Я просто не дала себе забыть, что когда-то и я сама была маленькой и хотела, чтобы меня услышали.
Пояснения
* - Разница между аффективным взрывом (эмоциональной перегрузкой) и истерикой как манипуляцией заключается в происхождении, цели и управляемости реакции.Визуально они могут быть похожи (слёзы, крик, возбуждённое состояние), но их "двигатели" совершенно разные.
1. Аффективный взрыв (Эмоциональная перегрузка)
Это непроизвольная, истекающая реакция на переполнение негативными эмоциями.
- Происхождение: Внутреннее. Человек не справляется с накопившимся стрессом, болью, страхом, усталостью. Это похоже на кипящий чайник, у которого срывает крышку.
- Цель: Не манипуляция. Цели как таковой нет. Это неконтролируемый выплеск энергии, способ организма сбросить невыносимое напряжение. Часто человеку после этого становится стыдно, он чувствует себя опустошённым и обессиленным
- Управляемость: Человек не может себя остановить по команде или усилием воли в момент пика. Он захлёстывается эмоциями.
- Контекст: Обычно следует за чередой тяжелых событий (как в случае с Таней: болезнь, усталость, плохие новости от врачей, чувство беспомощности).
- Что нужно человеку в этот момент?
- Безопасность: Не усугублять, не кричать в ответ.
- Эмпатия: "Я вижу, как тебе тяжело". "Я с тобой".
- Помощь в регуляции: Помочь "остыть" — дать воды, предложить выйти на воздух, просто молча побыть рядом.
- Разрядка: Дать этому состоянию пройти, не требуя немедленных объяснений.
2. Истерика как форма манипуляции
Это произвольное (хотя иногда и не до конца осознаваемое) поведение, направленное на достижение конкретной цели.
- Происхождение: Внешнее. Поведение направлено на другого человека и его реакцию.
- Цель: Манипуляция. Получить желаемое: внимание, ресурсы, чтобы другой человек что-то сделал или, наоборот, перестал делать. Цель — управлять поведением другого через давление на эмоции и чувство вины.
- Управляемость: Человек может себя контролировать. Истерика часто прекращается мгновенно, как только цель достигнута (или становится очевидно, что она не будет достигнута). Она может включаться и выключаться "по требованию" в зависимости от аудитории.
- Контекст: Может возникать в ситуациях, когда другие методы достижения цели не сработали или человек привык, что такой способ эффективен.
- Что нужно человеку в этот момент? (С точки зрения манипулятора) — добиться своего.
- Как реагировать?
- Сохранять границы: Не поддаваться на давление и не давать то, чего требуют манипулятивным путём.
- Сохранять спокойствие: Не вступать в эмоциональную перепалку.
- Перенаправить в конструктивное русло: "Я вижу, что ты расстроен. Я готов обсудить это с тобой, когда ты успокоишься".
- Чётко обозначить: "Я понимаю, что ты злишься, но на крике мы ничего не решим".
Сводная таблица для сравнения
Критерий | Аффективный взрыв (Перегрузка) | Истерика-манипуляция |
Происхождение | Внутреннее, от переполнения эмоциями | Внешнее, направлено на другого |
Цель | Сброс напряжения (бесцельно) | Получить выгоду, управлять другим |
Контроль | Утрачен, непроизвольная реакция | Сохранён, произвольное поведение |
Завершение | Постепенное, после истощения | Резкое, при достижении/отказе цели |
Состояние после | Стыд, опустошение, усталость | Облегчение (если цель достигнута) или злость |
Реакция на утешение | Помогает, человек "оттаивает" | Может усиливать истерику (если не дают желаемого) |
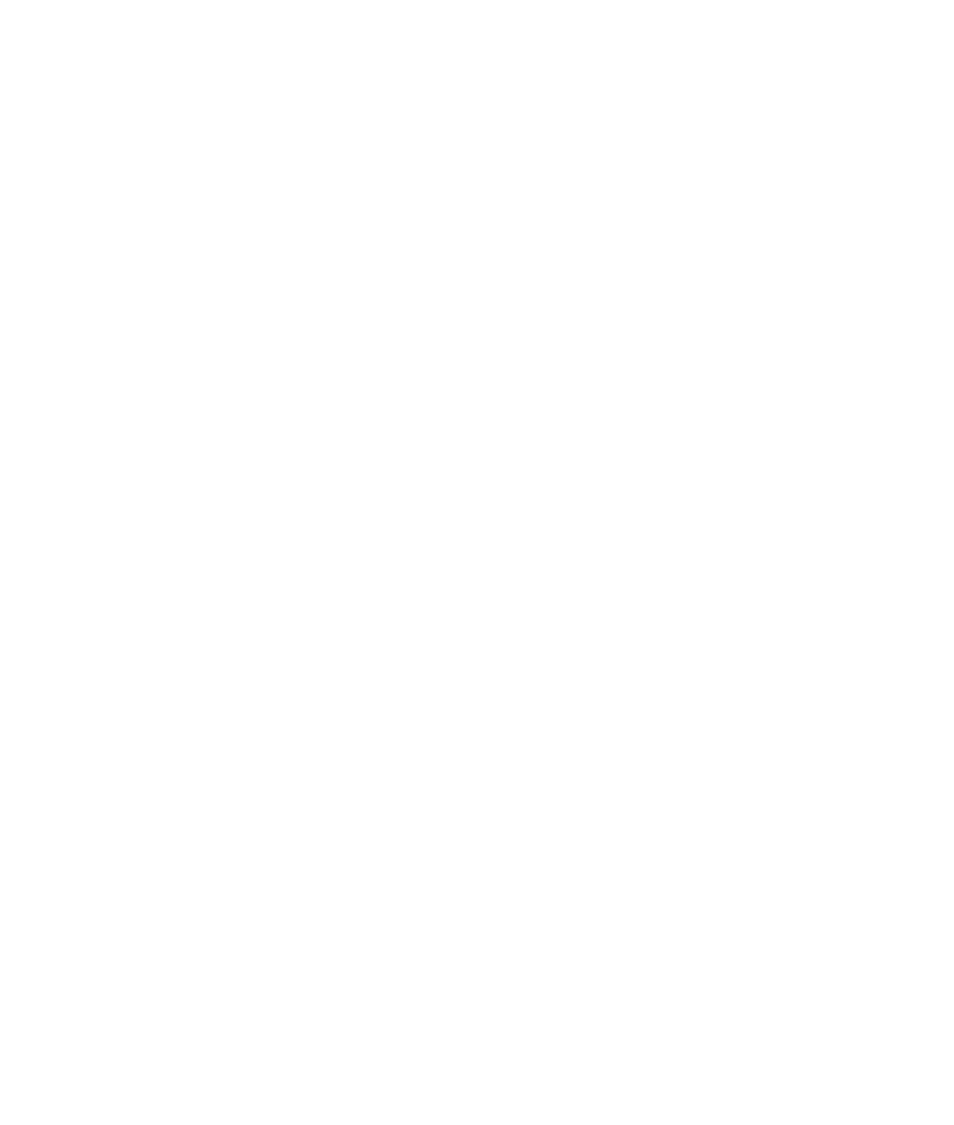
Рецепт на манипуляцию
Аннотация:
Навеяно воспоминанием об одном пациенте.
Последний пациент
Поликлиника затихала. Длинные коридоры, обычно заполненные шумом пациентов, теперь погружались в сонную тишину, нарушаемую лишь редкими шагами санитарки, убирающей кабинеты. Доктор Сергей Николаевич Зимин, терапевт с двадцатилетним стажем, дописывал последние строки в медицинской карточке последнего пациента и бросил взгляд на часы.
19:45.
Еще пятнадцать минут – и смена закончится, можно будет ехать домой.
Он потянулся, чувствуя усталость в спине после долгого дня. В этот пятничный вечер поток пациентов был особенно плотным – сезон простуд, хроники с обострениями, несколько тревожных бабуль с давлением... Но теперь, наконец, тишина.
Раздался стук в дверь.
— Войдите.
Его медсестра уже ушла домой, отпросилась пораньше на 20 минут, доочка заболела, лежала с температурой дома. Сергей Николаевич ожидал увидеть уборщицу, но вместо этого в кабинет вошел молодой человек лет двадцати пяти. Высокий, в помятом черном свитере и потертых джинсах, он держался неестественно прямо, будто играл роль больного в плохом спектакле. Его лицо было бледным, глаза – слишком блестящими, а губы подрагивали, словно от слабости.
— Здравствуйте, доктор, — произнес он, слегка картавя. — Мне... очень плохо.
Подозрительные симптомы
Сергей Николаевич привык оценивать пациентов с первого взгляда. Все-таки 20 лет стажа – не халам-балам. Этот выглядел странно. Да, он изображал слабость, но в его движениях не было настоящего измождения. Он играл страдание.
— Садитесь. Что вас беспокоит?
— Голова раскалывается, — молодой человек медленно опустился в кресло, закатив глаза. — Давление, наверное. И сердце... колотится.
— Давление мерили?
— Нет, но... — он сделал паузу, будто собираясь с мыслями, — у меня мама – врач. Она всегда говорила, что у меня склонность к гипертонии.
Сергей Николаевич молча достал тонометр и натянул манжету ему на руку. Пациент покорно протянул ладонь, но взгляд его был слишком настороженным.
— 120 на 80. У вас идеальное давление.
— Странно... — парень нахмурился. — Наверное, оно упало, пока я шел.
— А что еще беспокоит?
— Слабость, тошнота... Мне бы что-то тонизирующее. Кофеин, например, в ампулах.
— Кофеин? — врач приподнял бровь. — Обычно люди просят обезболивающее.
— Ну, у меня еще и голова болит. Но мне всегда помогало что-то с кофеином.
Сергей Николаевич откинулся в кресле.
— Вы говорите, ваша мама – врач. Какой специализации?
— Терапевт, — ответил пациент слишком быстро.
— Где работает?
— В... в областной больнице.
«Врет», — подумал врач.
Игра в больного
— Хорошо, — Сергей Николаевич сделал вид, что записывает. — А что вы принимали до этого?
— Ну... цитрамон, капли Зеленина... — он замялся. — Но мне нужно что-то посильнее.
— Например?
— Кордиамин. Или мезатон.
Кабинет на секунду замер.
Кордиамин. Мезатон.
Оба препарата – стимуляторы. Оба – рецептурные. Оба – любимые вещества у тех, кто ищет «кайф» или пытается взбодриться перед ночной сменой.
— Вы знаете, что эти препараты не назначают просто так?
— Но мне плохо! — его голос вдруг сорвался на истерическую ноту. — Я могу прямо сейчас упасть в обморок!
— Тогда вам точно нужна госпитализация. Я вызову «скорую».
— Нет! — парень резко вскочил, но тут же снова съежился, изображая слабость. — То есть... мне просто нужна помощь. Таблетка – и я пойду.
Сергей Николаевич медленно покачал головой.
— Вы хотите рецепт.
— Я хочу помощи! — в голосе пациента появились металлические нотки.
— Помощь – это не всегда таблетки.
Молодой человек резко изменил тактику. Его лицо стало жалобным, глаза влажными.
— Доктор, вы не понимаете... Мне страшно. Если ночью станет хуже...
— Тогда вызывайте «скорую».
— Но вы же можете помочь прямо сейчас! — его пальцы вцепились в край стола.
Разоблачение
Сергей Николаевич больше не сомневался – перед ним манипулятор. Виртуозный, но слишком самоуверенный.
— Хорошо, — сказал он, беря ручку. — Я выпишу вам направление на анализы. После результатов можно будет подобрать лечение.
Пациент замер. Его лицо исказилось.
— Это... это издевательство!
— Это стандартная процедура.
— Вы что, не видите, что я умираю?!
— Вижу, — спокойно ответил врач. — Вижу здорового человека, который слишком хорошо знает названия рецептурных препаратов.
Тишина.
Молодой человек резко вскочил, лицо его покраснело от ярости.
— Да пошел ты! — он швырнул направление на пол и рванул к двери.
Дверь захлопнулась с таким грохотом, что на столе задребезжали стаканы.
Сергей Николаевич вздохнул, поднял бумагу и задумался.
Он знал, что рано или поздно этот парень попадется – либо в наркодиспансере, либо в отделении неотложной помощи с передозировкой.
Но сегодня он его дальше не пропустил.
Послесловие
На улице уже стемнело. Врач выключил свет в кабинете и вышел, запер дверь на ключ.
— Сергей Николаевич, — окликнула его медсестра Наташа, выглянув из регистратуры. — Этот последний... Он еще в базе не был.
— Знаю.
— Что с ним?
— Манипулятор. Искал стимуляторы.
— Опять?
— Да.
Они молча постояли в полутьме коридора.
— Хорошо, что вы его раскусили, — вздохнула Наталья.
Сергей Николаевич лишь пожал плечами.
— Главное – он не получил то, что хотел.
Он вышел на улицу. Холодный октябрьский ветер ударил в лицо, но он даже не поморщился.
"Игра в больного – одна из самых старых в мире. Но я эту игру знаю наизусть."
А теперь от себя:
Этот молодой человек — классический пример неудачного манипулятора. Он совершил сразу несколько ошибок, выдавших его с головой:
И да, ирония ситуации: он пытался играть слабого, но силён лишь в одном — в саморазрушении. Если не остановится, следующий визит будет уже в больницу... но с настоящими симптомами. Скорее всего передоза.
Нужен ли психологический портрет этого пациента?
И так понятно, что его способ коммуникации - это слепленная в детстве копия поведения значимых взрослых. Плюс нарциссические черты:
Способ бегства от реальности? Попытка заполнить внутреннюю пустоту? Ритуал самоутверждения (типа "Я обману систему")? Или, возможно, всё вместе?
А эти защитные механизмы:
Но ПАРАДОКС:
Чем искуснее его манипуляции - тем глубже одиночество. Каждая успешная попытка обмана подтверждает его убеждение: "Люди - инструменты", но лишает возможности настоящей близости.
Без помощи он будет идти по нарастающей: сегодня симуляция давления, завтра - инсценировка суицида "для внимания". Его трагедия в том, что настоящие страдания он научился только имитировать.
И сколько их таких!
Навеяно воспоминанием об одном пациенте.
Последний пациент
Поликлиника затихала. Длинные коридоры, обычно заполненные шумом пациентов, теперь погружались в сонную тишину, нарушаемую лишь редкими шагами санитарки, убирающей кабинеты. Доктор Сергей Николаевич Зимин, терапевт с двадцатилетним стажем, дописывал последние строки в медицинской карточке последнего пациента и бросил взгляд на часы.
19:45.
Еще пятнадцать минут – и смена закончится, можно будет ехать домой.
Он потянулся, чувствуя усталость в спине после долгого дня. В этот пятничный вечер поток пациентов был особенно плотным – сезон простуд, хроники с обострениями, несколько тревожных бабуль с давлением... Но теперь, наконец, тишина.
Раздался стук в дверь.
— Войдите.
Его медсестра уже ушла домой, отпросилась пораньше на 20 минут, доочка заболела, лежала с температурой дома. Сергей Николаевич ожидал увидеть уборщицу, но вместо этого в кабинет вошел молодой человек лет двадцати пяти. Высокий, в помятом черном свитере и потертых джинсах, он держался неестественно прямо, будто играл роль больного в плохом спектакле. Его лицо было бледным, глаза – слишком блестящими, а губы подрагивали, словно от слабости.
— Здравствуйте, доктор, — произнес он, слегка картавя. — Мне... очень плохо.
Подозрительные симптомы
Сергей Николаевич привык оценивать пациентов с первого взгляда. Все-таки 20 лет стажа – не халам-балам. Этот выглядел странно. Да, он изображал слабость, но в его движениях не было настоящего измождения. Он играл страдание.
— Садитесь. Что вас беспокоит?
— Голова раскалывается, — молодой человек медленно опустился в кресло, закатив глаза. — Давление, наверное. И сердце... колотится.
— Давление мерили?
— Нет, но... — он сделал паузу, будто собираясь с мыслями, — у меня мама – врач. Она всегда говорила, что у меня склонность к гипертонии.
Сергей Николаевич молча достал тонометр и натянул манжету ему на руку. Пациент покорно протянул ладонь, но взгляд его был слишком настороженным.
— 120 на 80. У вас идеальное давление.
— Странно... — парень нахмурился. — Наверное, оно упало, пока я шел.
— А что еще беспокоит?
— Слабость, тошнота... Мне бы что-то тонизирующее. Кофеин, например, в ампулах.
— Кофеин? — врач приподнял бровь. — Обычно люди просят обезболивающее.
— Ну, у меня еще и голова болит. Но мне всегда помогало что-то с кофеином.
Сергей Николаевич откинулся в кресле.
— Вы говорите, ваша мама – врач. Какой специализации?
— Терапевт, — ответил пациент слишком быстро.
— Где работает?
— В... в областной больнице.
«Врет», — подумал врач.
Игра в больного
— Хорошо, — Сергей Николаевич сделал вид, что записывает. — А что вы принимали до этого?
— Ну... цитрамон, капли Зеленина... — он замялся. — Но мне нужно что-то посильнее.
— Например?
— Кордиамин. Или мезатон.
Кабинет на секунду замер.
Кордиамин. Мезатон.
Оба препарата – стимуляторы. Оба – рецептурные. Оба – любимые вещества у тех, кто ищет «кайф» или пытается взбодриться перед ночной сменой.
— Вы знаете, что эти препараты не назначают просто так?
— Но мне плохо! — его голос вдруг сорвался на истерическую ноту. — Я могу прямо сейчас упасть в обморок!
— Тогда вам точно нужна госпитализация. Я вызову «скорую».
— Нет! — парень резко вскочил, но тут же снова съежился, изображая слабость. — То есть... мне просто нужна помощь. Таблетка – и я пойду.
Сергей Николаевич медленно покачал головой.
— Вы хотите рецепт.
— Я хочу помощи! — в голосе пациента появились металлические нотки.
— Помощь – это не всегда таблетки.
Молодой человек резко изменил тактику. Его лицо стало жалобным, глаза влажными.
— Доктор, вы не понимаете... Мне страшно. Если ночью станет хуже...
— Тогда вызывайте «скорую».
— Но вы же можете помочь прямо сейчас! — его пальцы вцепились в край стола.
Разоблачение
Сергей Николаевич больше не сомневался – перед ним манипулятор. Виртуозный, но слишком самоуверенный.
— Хорошо, — сказал он, беря ручку. — Я выпишу вам направление на анализы. После результатов можно будет подобрать лечение.
Пациент замер. Его лицо исказилось.
— Это... это издевательство!
— Это стандартная процедура.
— Вы что, не видите, что я умираю?!
— Вижу, — спокойно ответил врач. — Вижу здорового человека, который слишком хорошо знает названия рецептурных препаратов.
Тишина.
Молодой человек резко вскочил, лицо его покраснело от ярости.
— Да пошел ты! — он швырнул направление на пол и рванул к двери.
Дверь захлопнулась с таким грохотом, что на столе задребезжали стаканы.
Сергей Николаевич вздохнул, поднял бумагу и задумался.
Он знал, что рано или поздно этот парень попадется – либо в наркодиспансере, либо в отделении неотложной помощи с передозировкой.
Но сегодня он его дальше не пропустил.
Послесловие
На улице уже стемнело. Врач выключил свет в кабинете и вышел, запер дверь на ключ.
— Сергей Николаевич, — окликнула его медсестра Наташа, выглянув из регистратуры. — Этот последний... Он еще в базе не был.
— Знаю.
— Что с ним?
— Манипулятор. Искал стимуляторы.
— Опять?
— Да.
Они молча постояли в полутьме коридора.
— Хорошо, что вы его раскусили, — вздохнула Наталья.
Сергей Николаевич лишь пожал плечами.
— Главное – он не получил то, что хотел.
Он вышел на улицу. Холодный октябрьский ветер ударил в лицо, но он даже не поморщился.
"Игра в больного – одна из самых старых в мире. Но я эту игру знаю наизусть."
А теперь от себя:
Этот молодой человек — классический пример неудачного манипулятора. Он совершил сразу несколько ошибок, выдавших его с головой:
- Переиграл симптомы
- Его «слабость» была театральной: блестящие глаза, неестественные паузы, нарочитая дрожь в голосе. Настоящие больные редко так концентрируются на демонстрации страданий — они просто есть.
- Слишком уверенно оперировал терминами
- Обычно пациенты говорят: «Что-то для давления». Он же чётко назвал то, что ему нужно — это как грабитель, требующий продавщицу открыть кассу.
- Смена тактики
- Сначала давление, потом сердце, потом угрозы обморока — его «диагнозы» менялись, как перчатки. Манипуляторы часто так делают, подстраиваясь под реакцию.
- Ярость при провале
- Истинная эмоция вырвалась наружу, когда он понял: врач его раскусил. Это ярче любых слов подтвердило его неискренность.
И да, ирония ситуации: он пытался играть слабого, но силён лишь в одном — в саморазрушении. Если не остановится, следующий визит будет уже в больницу... но с настоящими симптомами. Скорее всего передоза.
Нужен ли психологический портрет этого пациента?
И так понятно, что его способ коммуникации - это слепленная в детстве копия поведения значимых взрослых. Плюс нарциссические черты:
- недоразвитая эмпатия (искренне не понимает, почему врач не подчиняется)
- вера в свою исключительность ("Мне можно нарушать правила")
- фрустрация при столкновении с реальностью
Способ бегства от реальности? Попытка заполнить внутреннюю пустоту? Ритуал самоутверждения (типа "Я обману систему")? Или, возможно, всё вместе?
А эти защитные механизмы:
- «Это врач плохой, не я»
- истерика
- его «Мне правда плохо»
Но ПАРАДОКС:
Чем искуснее его манипуляции - тем глубже одиночество. Каждая успешная попытка обмана подтверждает его убеждение: "Люди - инструменты", но лишает возможности настоящей близости.
Без помощи он будет идти по нарастающей: сегодня симуляция давления, завтра - инсценировка суицида "для внимания". Его трагедия в том, что настоящие страдания он научился только имитировать.
И сколько их таких!
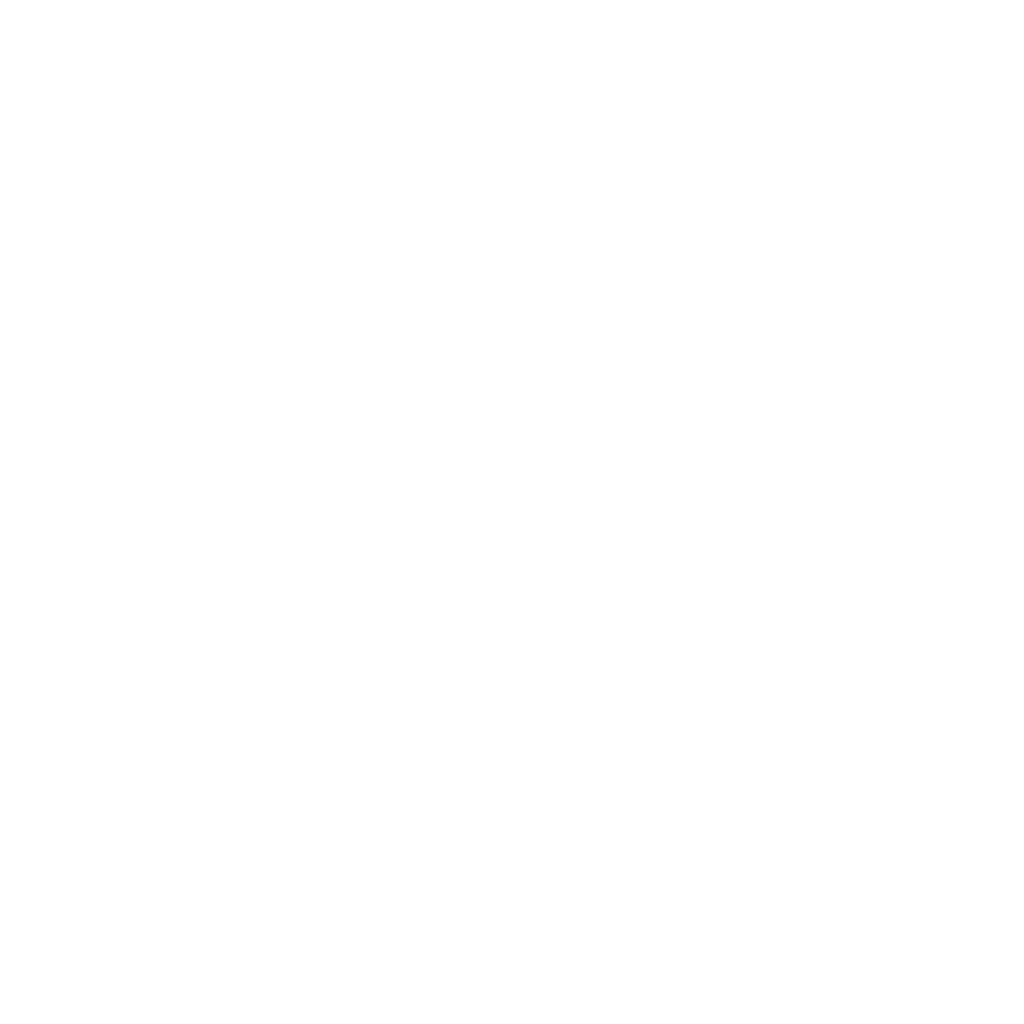
Хамство в общественном транспорте: или почему все такие «милые и дружелюбные»
Всю жизнь ездила в общественном транспорте. Только последние 10 лет на своей машине. Сегодня и вчера снова проехала на маршрутке. Возможно, конечно, что это я такая «везучая», но оба раза именно в транспорте, где ехала я, возникали конфликты. В первый раз между пассажиром и водителем, во второй – между самими попутчиками в салоне.
И вот я пишу. О чём? О том, что поразило больше всего. За 10 лет обстановка в нашем общественном транспорте поменялась очень сильно.
Почему? Не знаю. Могу только поразмышлять.
В общественном транспорте ежедневно сталкиваются миллионы людей, многие ездят по несколько раз в день. Думаю, никто изначально не хочет никому хамить, но… В итоге так получается.
Думаю, это не результат чьей-то злой натуры, а следствие целого комплекса факторов.
Каких? С моей точки зрения, никаких америк я не открою, если начну со стресса и усталости от повседневной жизни.
Да, я действительно считаю, что один из главных триггеров такого хамства — накопленный стресс. Люди едут в транспорте после долгого рабочего дня, по пробам, погруженные в ворох личных или семейных проблем.
Читала, что согласно исследованиям психологов, стресс снижает эмпатию и повышает агрессию. В переполненном вагоне метро, или автобусе, или маршрутке человек может сорваться на незнакомца, потому что видит в нём препятствие, а не равного. Пример: уставший пассажир, опоздавший на работу, может нагрубить тому, кто случайно наступил на ногу, — и это будет реакция на общий дискомфорт, а не на конкретного человека.
Какие ещё факторы могут влиять на нашу агрессию в транспорте? Анонимность и отсутствие последствий.
Ведь общественный транспорт создаёт иллюзию безнаказанности. Люди знают, что, скорее всего, никогда больше не увидят "жертву" хамства, поэтому сдерживающие факторы (страх осуждения или наказания) ослабевают. Психологи называют это "эффектом анонимности" — он проявляется также и в онлайн-коммуникациях, и в реальной жизни, например, в толпе. А ещё анонимность усиливает антисоциальное поведение. И это уже общеизвестный факт. В транспорте это видно, когда пассажиры кричат в телефон, не стесняясь окружающих, или грубят кондуктору (водителю), зная, что инцидент забудется.
Что ещё приходит на ум? Переполненность и теснота в нашем транспорте.
А теснота — физический и психологический стрессор. В пиковые часы транспорт набит людьми, что вызывает раздражение от близкого контакта, запахов и шума. И да, плотная среда повышает агрессию: люди чувствуют потерю личного пространства и реагируют защитно. А в общественном транспорте это как раз и проявляется в толчках, ругани при посадке или отказе уступить место.
Следующая причина у меня под большим знаком вопроса. Социальные нормы. Почему я всё-таки её рассматриваю и почему под знаком вопроса:
хамство не универсально — во многом оно зависит от социальной среды. Возможно, это как способ утвердить доминирование? Не знаю… Очень спорно. В любом случае, хамство в жизни не приемлю.
И вот на ум приходит еще один фактор - личные проблемы и перенос эмоций. Тоже некрасиво, но уже можно понять.
Многие хамят, перенося свои эмоции на окружающих. Считается, что это особенно заметно у людей с низким эмоциональным интеллектом или в состоянии депрессии. Не знаю – не знаю… Могу поспорить. В транспорте, где нет приватности, такие эмоции выплёскиваются наружу на раз. Например, мама, уставшая от криков ребёнка, может накричать на кого-то за громкое высказывание.
Ещё можно выделить такой фактор, как смартфоны.
Люди, погружённые в соцсети или игры, мессенджеры или просто проверку своей почты – что угодно - игнорируют окружающих, что воспринимается многими как хамство. А ведь цифровая отвлечённость снижает социальные навыки: пассажир, не уступающий место, может просто не заметить просьбу об этом. Это создаёт цепную реакцию — один грубит, другой отвечает тем же, и ситуация эскалирует.
Так вот, к чему я пришла в своих умозаключениях:
хамство в общественном транспорте — это практически всегда не злоба отдельно взятого человека, а комбинация стресса, анонимности, его социума и личных обстоятельств.
И что же делать? Не ездить в общественном транспорте? Утопия. А вот понимание этих факторов помогает не воспринимать хамство лично и даже изменить ситуацию: личная вежливость заразительна. Попробовать эмпатию? Улыбка в хамской ситуации, конечно, не выйдет (у меня, по крайней мере), а спокойный ответ иногда может разрядить атмосферу.
В конечном счёте, улучшение самого общественного транспорта (больше мест, видеофиксация и подобное) могло бы снизить проблему, но пока это зависит не от нас самих.
И вот я пишу. О чём? О том, что поразило больше всего. За 10 лет обстановка в нашем общественном транспорте поменялась очень сильно.
Почему? Не знаю. Могу только поразмышлять.
В общественном транспорте ежедневно сталкиваются миллионы людей, многие ездят по несколько раз в день. Думаю, никто изначально не хочет никому хамить, но… В итоге так получается.
Думаю, это не результат чьей-то злой натуры, а следствие целого комплекса факторов.
Каких? С моей точки зрения, никаких америк я не открою, если начну со стресса и усталости от повседневной жизни.
Да, я действительно считаю, что один из главных триггеров такого хамства — накопленный стресс. Люди едут в транспорте после долгого рабочего дня, по пробам, погруженные в ворох личных или семейных проблем.
Читала, что согласно исследованиям психологов, стресс снижает эмпатию и повышает агрессию. В переполненном вагоне метро, или автобусе, или маршрутке человек может сорваться на незнакомца, потому что видит в нём препятствие, а не равного. Пример: уставший пассажир, опоздавший на работу, может нагрубить тому, кто случайно наступил на ногу, — и это будет реакция на общий дискомфорт, а не на конкретного человека.
Какие ещё факторы могут влиять на нашу агрессию в транспорте? Анонимность и отсутствие последствий.
Ведь общественный транспорт создаёт иллюзию безнаказанности. Люди знают, что, скорее всего, никогда больше не увидят "жертву" хамства, поэтому сдерживающие факторы (страх осуждения или наказания) ослабевают. Психологи называют это "эффектом анонимности" — он проявляется также и в онлайн-коммуникациях, и в реальной жизни, например, в толпе. А ещё анонимность усиливает антисоциальное поведение. И это уже общеизвестный факт. В транспорте это видно, когда пассажиры кричат в телефон, не стесняясь окружающих, или грубят кондуктору (водителю), зная, что инцидент забудется.
Что ещё приходит на ум? Переполненность и теснота в нашем транспорте.
А теснота — физический и психологический стрессор. В пиковые часы транспорт набит людьми, что вызывает раздражение от близкого контакта, запахов и шума. И да, плотная среда повышает агрессию: люди чувствуют потерю личного пространства и реагируют защитно. А в общественном транспорте это как раз и проявляется в толчках, ругани при посадке или отказе уступить место.
Следующая причина у меня под большим знаком вопроса. Социальные нормы. Почему я всё-таки её рассматриваю и почему под знаком вопроса:
хамство не универсально — во многом оно зависит от социальной среды. Возможно, это как способ утвердить доминирование? Не знаю… Очень спорно. В любом случае, хамство в жизни не приемлю.
И вот на ум приходит еще один фактор - личные проблемы и перенос эмоций. Тоже некрасиво, но уже можно понять.
Многие хамят, перенося свои эмоции на окружающих. Считается, что это особенно заметно у людей с низким эмоциональным интеллектом или в состоянии депрессии. Не знаю – не знаю… Могу поспорить. В транспорте, где нет приватности, такие эмоции выплёскиваются наружу на раз. Например, мама, уставшая от криков ребёнка, может накричать на кого-то за громкое высказывание.
Ещё можно выделить такой фактор, как смартфоны.
Люди, погружённые в соцсети или игры, мессенджеры или просто проверку своей почты – что угодно - игнорируют окружающих, что воспринимается многими как хамство. А ведь цифровая отвлечённость снижает социальные навыки: пассажир, не уступающий место, может просто не заметить просьбу об этом. Это создаёт цепную реакцию — один грубит, другой отвечает тем же, и ситуация эскалирует.
Так вот, к чему я пришла в своих умозаключениях:
хамство в общественном транспорте — это практически всегда не злоба отдельно взятого человека, а комбинация стресса, анонимности, его социума и личных обстоятельств.
И что же делать? Не ездить в общественном транспорте? Утопия. А вот понимание этих факторов помогает не воспринимать хамство лично и даже изменить ситуацию: личная вежливость заразительна. Попробовать эмпатию? Улыбка в хамской ситуации, конечно, не выйдет (у меня, по крайней мере), а спокойный ответ иногда может разрядить атмосферу.
В конечном счёте, улучшение самого общественного транспорта (больше мест, видеофиксация и подобное) могло бы снизить проблему, но пока это зависит не от нас самих.
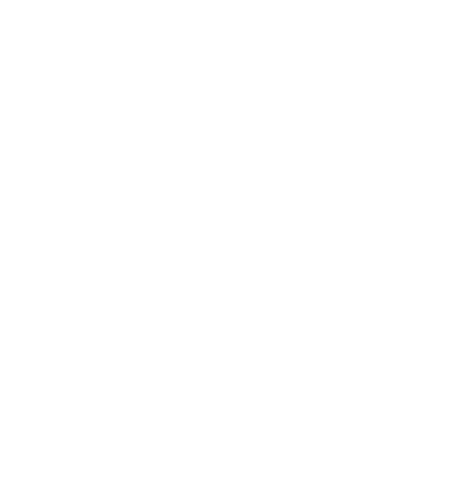
Наша судьба и как её изменить
Ну вот не спалось мне сегодня ночью…
И не надо меня лечить типа, что работать надо больше и сон будет лучше. Работы как грязи, полно. А вот сна нет.
Почему? И почему мне сегодня ночью думалось о философских вопросах?
Что такое судьба? Можно ли её изменить? Что для этого нужно?
И главное: зачем МНЕ ЭТО?
Никогда не задумывалась о таких вопросах и даже потребности такой не было.
Размышляю.
Потребность задумываться о судьбе (своей или вообще, в символическом смысле) может возникать по разным причинам. И часто эти причины связанны с нашими переживаниями, жизненным опытом или стремлением понять мир вокруг.
Но как это связано со мной, моей ночной бессонницей и размышлениями?
Встреча с неопределенностью? В моей-то жизни? Когда мы сталкиваемся с непредсказуемыми событиями, переменами или кризисами, обычно становится сложнее строить планы и контролировать ситуацию. В такие моменты размышления о судьбе могут казаться попыткой найти какой-то смысл или объяснение происходящему.
Нет, однозначно это не про меня.
Поиск смысла жизни? Размышления о судьбе могут быть связаны с глубинным желанием понять свое предназначение, ответить на вопросы "Зачем я здесь?", "Какова моя миссия?" и так далее….
Нет, тоже не моё.
Столкновение с трудностями и неудачами? Ведь когда мы переживаем тяжелые времена, нам свойственно задумываться о том, почему это происходит именно с нами. Размышления о судьбе могут стать способом найти утешение, оправдание или, наоборот, осознать, что мы сами несем ответственность за свои неудачи.
Увы, не этот у меня сейчас период в жизни.
А, может, наоборот, встреча с успехом и удачей? Нуу, успех и внезапный успех также могут побудить к размышлениям о судьбе. Мы можем задаваться вопросом, заслужили ли мы этот успех, является ли он случайностью или частью какого-то большего плана.
Я, конечно, на жизнь не жалуюсь, но не до такой степени, чтобы задумываться с судьбе по этой причине.
Что ещё осталось из возможных причин?
Вопросы о справедливости? да, когда мы видим несправедливость в мире, страдания невинных людей или животных нам может быть сложно принять это без какого-либо объяснения. Размышления о судьбе, карме или высшей справедливости могут помочь нам найти утешение и попытаться понять происходящее.
Увы, нет.
Остаются личные кризисы и переломные моменты: резко ухудшилось здоровье папы. Да, это причина.
Что ж, причина найдена. А теперь мои ночные рассуждения.
Для начала что такое судьба? Мне кажется, судьба – это одно из самых дискуссионных и философских понятий, которое имеет великое множество интерпретаций в различных культурах, религиях и философских системах. Это вопрос, однозначного ответа на который, наверное, не существует.
Что я понимаю под судьбой?
Наверное, мне легче будет написать по пунктам.
Часто судьбу воспринимают как заранее определённый ход событий в жизни человека, который невозможно изменить.
Говорят: «Это судьба…»
Почему-то многие считают, что все события уже предписаны, и человек просто следует заранее установленной программе. Например, человек верит, что ему суждено стать врачом, несмотря на все его попытки заниматься музыкой. Или наоборот.
Я с этим не согласна.
Смесь предопределённости и свободы воли - более умеренный, что ли, взгляд. И он предполагает, что существует некий "коридор" судьбы, в рамках которого человек имеет свободу выбора. Ключевые события жизни могут быть предопределены, но то, как мы на них реагируем и какие решения принимаем, находится в нашей власти. Например, человеку суждено переехать в другой город, но выбор работы и друзей в этом городе остается за ним.
Этот вариант уже можно рассмотреть.
Можно рассмотреть и такой вариант определения судьбы, где судьба – это не жёсткий план, а совокупность генетических предрасположенностей, условий окружающей среды и накопленного опыта, которые формируют определённые тенденции в жизни человека. Например, человек с музыкальными способностями, выросший в творческой семье, имеет больше шансов стать музыкантом, но это точно не предопределено.
Тоже принимаю такое.
Встречалась с таким, что вера в судьбу сама по себе может её сформировать. Человек, убеждённый в определённом исходе, может подсознательно действовать таким образом, чтобы это предсказание сбылось. Например, человек, которому предсказали неудачу в бизнесе, может подсознательно саботировать свои усилия, чтобы "подтвердить" предсказание.
Кстати, в жизни такое случается нередко.
И наиболее радикальная точка зрения некоторых отрицает существование судьбы вообще. Cогласно ей, жизнь человека – это результат случайных событий и свободных решений, и никакой заранее установленной программы не существует.
А что? А вдруг?
Думаю, все точки зрения правильные. Всё очень индивидуально и зависит от самого человека.
Но вот ещё что интересно:
Можно ли изменить судьбу?
Опять же, ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, как мы сами определяем свою судьбу. Исходя из уже вышеизложенных пунктов, тут есть несколько вариантов:
Возникает закономерный вопрос: почему мы всё-таки способны изменить свою судьбу?
А потому что:
Большинство людей не просто чувствуют, что обладают свободой выбора. Мы принимаем решения каждый день, и эти решения влияют на наше будущее напрямую.
Далее: улучшая свои навыки, знания и личностные качества в течении своей жизни, мы расширяем свои возможности и открываем новые пути.
Выбирая, с кем общаться, где жить и чем заниматься, мы формируем благоприятную или неблагоприятную среду для реализации своих целей.
Наше отношение к жизни влияет на наши поступки и результаты. Оптимизм и вера в себя – то, что нам нужно на этом пути.
И, в конце концов, упорный труд и следование к своей цели могут изменить ход событий.
Заключение:
Ну вот, как-то так у меня получилось поразмышлять ночью.
Вообще-то, философия не мой конёк…
Но размышления свои я всё-таки решила запечатлеть для истории.
И независимо от того, верю ли я или кто-то другой в предопределенность, то бишь судьбу, или нет, важно помнить, что у нас всех всегда есть право выбора, и мы можем влиять на свою жизнь. Даже если существуют какие-то ограничения, даже, если кажется, что выбора нет, всегда есть возможность стремиться к лучшему и создавать свою собственную судьбу. Поверьте, я знаю о чём сейчас пишу.
Главное – не сдаваться и верить в свои силы. Судьба может быть не предначертанным путем, а скорее, возможностью проявить себя, принять ответственность и построить жизнь, которая соответствует нашим ценностям и мечтам. Именно наши решения и действия сегодня определяют нашу судьбу завтра.
Вот теперь написала всё, что хотела по этому поводу.
И не надо меня лечить типа, что работать надо больше и сон будет лучше. Работы как грязи, полно. А вот сна нет.
Почему? И почему мне сегодня ночью думалось о философских вопросах?
Что такое судьба? Можно ли её изменить? Что для этого нужно?
И главное: зачем МНЕ ЭТО?
Никогда не задумывалась о таких вопросах и даже потребности такой не было.
Размышляю.
Потребность задумываться о судьбе (своей или вообще, в символическом смысле) может возникать по разным причинам. И часто эти причины связанны с нашими переживаниями, жизненным опытом или стремлением понять мир вокруг.
Но как это связано со мной, моей ночной бессонницей и размышлениями?
Встреча с неопределенностью? В моей-то жизни? Когда мы сталкиваемся с непредсказуемыми событиями, переменами или кризисами, обычно становится сложнее строить планы и контролировать ситуацию. В такие моменты размышления о судьбе могут казаться попыткой найти какой-то смысл или объяснение происходящему.
Нет, однозначно это не про меня.
Поиск смысла жизни? Размышления о судьбе могут быть связаны с глубинным желанием понять свое предназначение, ответить на вопросы "Зачем я здесь?", "Какова моя миссия?" и так далее….
Нет, тоже не моё.
Столкновение с трудностями и неудачами? Ведь когда мы переживаем тяжелые времена, нам свойственно задумываться о том, почему это происходит именно с нами. Размышления о судьбе могут стать способом найти утешение, оправдание или, наоборот, осознать, что мы сами несем ответственность за свои неудачи.
Увы, не этот у меня сейчас период в жизни.
А, может, наоборот, встреча с успехом и удачей? Нуу, успех и внезапный успех также могут побудить к размышлениям о судьбе. Мы можем задаваться вопросом, заслужили ли мы этот успех, является ли он случайностью или частью какого-то большего плана.
Я, конечно, на жизнь не жалуюсь, но не до такой степени, чтобы задумываться с судьбе по этой причине.
Что ещё осталось из возможных причин?
Вопросы о справедливости? да, когда мы видим несправедливость в мире, страдания невинных людей или животных нам может быть сложно принять это без какого-либо объяснения. Размышления о судьбе, карме или высшей справедливости могут помочь нам найти утешение и попытаться понять происходящее.
Увы, нет.
Остаются личные кризисы и переломные моменты: резко ухудшилось здоровье папы. Да, это причина.
Что ж, причина найдена. А теперь мои ночные рассуждения.
Для начала что такое судьба? Мне кажется, судьба – это одно из самых дискуссионных и философских понятий, которое имеет великое множество интерпретаций в различных культурах, религиях и философских системах. Это вопрос, однозначного ответа на который, наверное, не существует.
Что я понимаю под судьбой?
Наверное, мне легче будет написать по пунктам.
Часто судьбу воспринимают как заранее определённый ход событий в жизни человека, который невозможно изменить.
Говорят: «Это судьба…»
Почему-то многие считают, что все события уже предписаны, и человек просто следует заранее установленной программе. Например, человек верит, что ему суждено стать врачом, несмотря на все его попытки заниматься музыкой. Или наоборот.
Я с этим не согласна.
Смесь предопределённости и свободы воли - более умеренный, что ли, взгляд. И он предполагает, что существует некий "коридор" судьбы, в рамках которого человек имеет свободу выбора. Ключевые события жизни могут быть предопределены, но то, как мы на них реагируем и какие решения принимаем, находится в нашей власти. Например, человеку суждено переехать в другой город, но выбор работы и друзей в этом городе остается за ним.
Этот вариант уже можно рассмотреть.
Можно рассмотреть и такой вариант определения судьбы, где судьба – это не жёсткий план, а совокупность генетических предрасположенностей, условий окружающей среды и накопленного опыта, которые формируют определённые тенденции в жизни человека. Например, человек с музыкальными способностями, выросший в творческой семье, имеет больше шансов стать музыкантом, но это точно не предопределено.
Тоже принимаю такое.
Встречалась с таким, что вера в судьбу сама по себе может её сформировать. Человек, убеждённый в определённом исходе, может подсознательно действовать таким образом, чтобы это предсказание сбылось. Например, человек, которому предсказали неудачу в бизнесе, может подсознательно саботировать свои усилия, чтобы "подтвердить" предсказание.
Кстати, в жизни такое случается нередко.
И наиболее радикальная точка зрения некоторых отрицает существование судьбы вообще. Cогласно ей, жизнь человека – это результат случайных событий и свободных решений, и никакой заранее установленной программы не существует.
А что? А вдруг?
Думаю, все точки зрения правильные. Всё очень индивидуально и зависит от самого человека.
Но вот ещё что интересно:
Можно ли изменить судьбу?
Опять же, ответ на этот вопрос напрямую зависит от того, как мы сами определяем свою судьбу. Исходя из уже вышеизложенных пунктов, тут есть несколько вариантов:
- если судьба – это абсолютная предопределённость, то изменить её невозможно. Любые попытки противостоять ей также заранее предписаны.
- если есть "коридор" судьбы, то изменить её в рамках этого коридора возможно. Свобода выбора позволяет нам принимать решения, которые влияют на наш жизненный путь. Опять же, в рамках "коридора".
- если судьба – это потенциал и тенденции, то изменить её вполне реально. Изменяя свои привычки, убеждения, окружение и приобретая новый опыт, мы можем перенаправить свою жизнь в другом направлении.
- а если судьбы не существует, то, конечно, мы сами творцы своей жизни.
Возникает закономерный вопрос: почему мы всё-таки способны изменить свою судьбу?
А потому что:
Большинство людей не просто чувствуют, что обладают свободой выбора. Мы принимаем решения каждый день, и эти решения влияют на наше будущее напрямую.
Далее: улучшая свои навыки, знания и личностные качества в течении своей жизни, мы расширяем свои возможности и открываем новые пути.
Выбирая, с кем общаться, где жить и чем заниматься, мы формируем благоприятную или неблагоприятную среду для реализации своих целей.
Наше отношение к жизни влияет на наши поступки и результаты. Оптимизм и вера в себя – то, что нам нужно на этом пути.
И, в конце концов, упорный труд и следование к своей цели могут изменить ход событий.
Заключение:
Ну вот, как-то так у меня получилось поразмышлять ночью.
Вообще-то, философия не мой конёк…
Но размышления свои я всё-таки решила запечатлеть для истории.
И независимо от того, верю ли я или кто-то другой в предопределенность, то бишь судьбу, или нет, важно помнить, что у нас всех всегда есть право выбора, и мы можем влиять на свою жизнь. Даже если существуют какие-то ограничения, даже, если кажется, что выбора нет, всегда есть возможность стремиться к лучшему и создавать свою собственную судьбу. Поверьте, я знаю о чём сейчас пишу.
Главное – не сдаваться и верить в свои силы. Судьба может быть не предначертанным путем, а скорее, возможностью проявить себя, принять ответственность и построить жизнь, которая соответствует нашим ценностям и мечтам. Именно наши решения и действия сегодня определяют нашу судьбу завтра.
Вот теперь написала всё, что хотела по этому поводу.
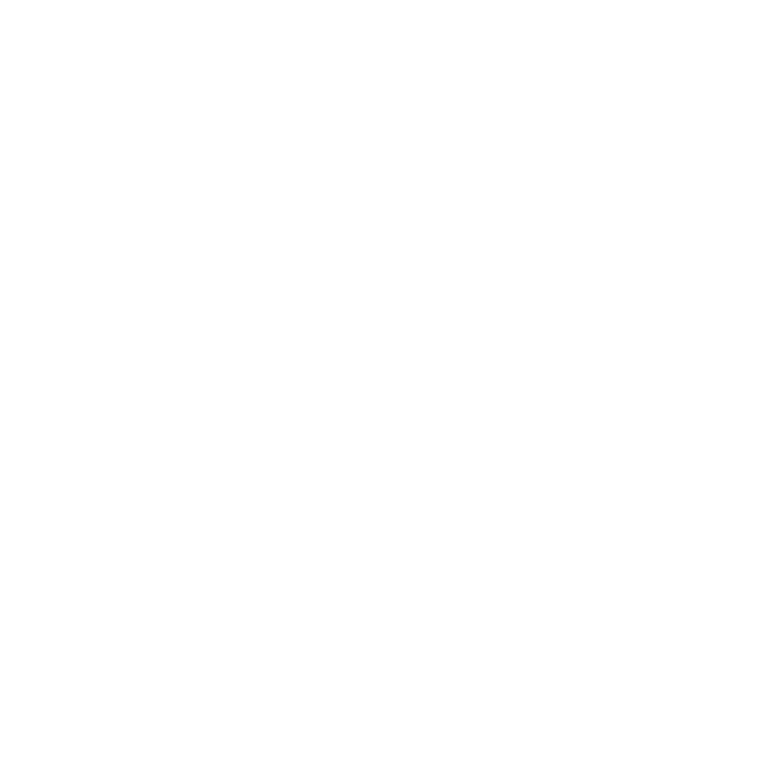
Отзывы
сентябрь, 2025
Марина Томина, читатель
Удивляюсь, что ещё никто не поздравил автора с 32й годовщиной совместной жизни! В наше время это дорогого стоит! Счастья вам! Спасибо за ваше творчество. Приятно читать ваши мысли.
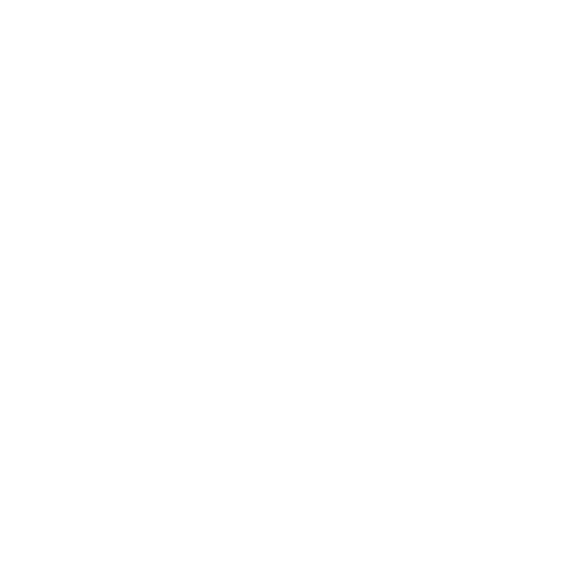
сентябрь, 2025
мама Вера, читатель
Всегда поражают те мамы, которые сюсюкаются со своими детьми до такой степени, что позволяют им устраивать истерики. У меня 3 ребёнка, росли в любви и заботе, никогда никаких истерик не было. Автор прав - будьте своему ребёнку любящей мамой и другом, который не предаст.
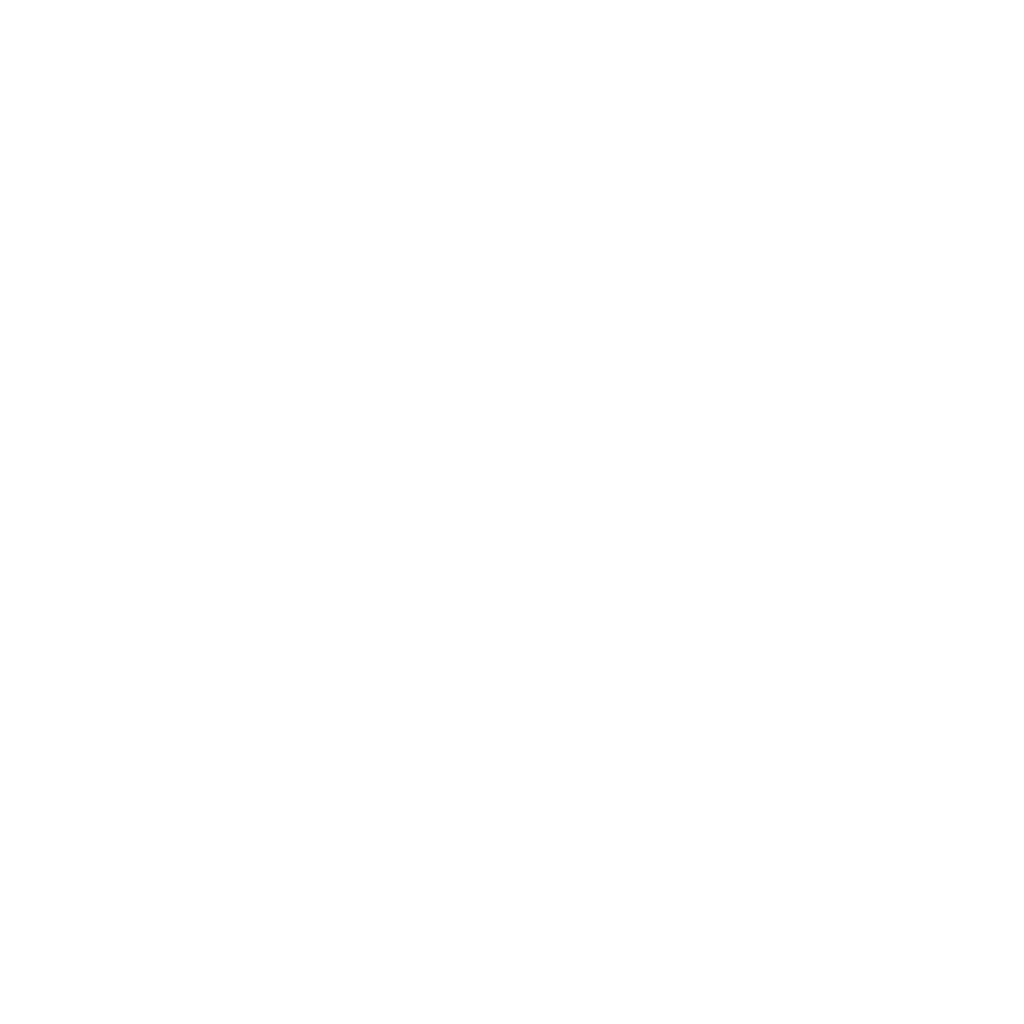
сентябрь, 2025
Татьяна Короткова (Михайлова), читатель
Прекрасный стиль молодого автора. Читается легко и с интересом. Начав читать РУЖЬЯ В КАРМАНАХ, напряглась и сразу в сознании выстроились великие полотна, о каком бы могла идти речь; перебирала некоторые и сразу мелькнула МАДОННА - ДА ВИНЧИ. ЧИТАЮ ДО КОНЦА И ВИЖУ --- ТАК И ЕСТЬ --- ОНА. МНЕ БЫЛО ПРИЯТНО-- ПОПАЛА В ТОЧКУ.
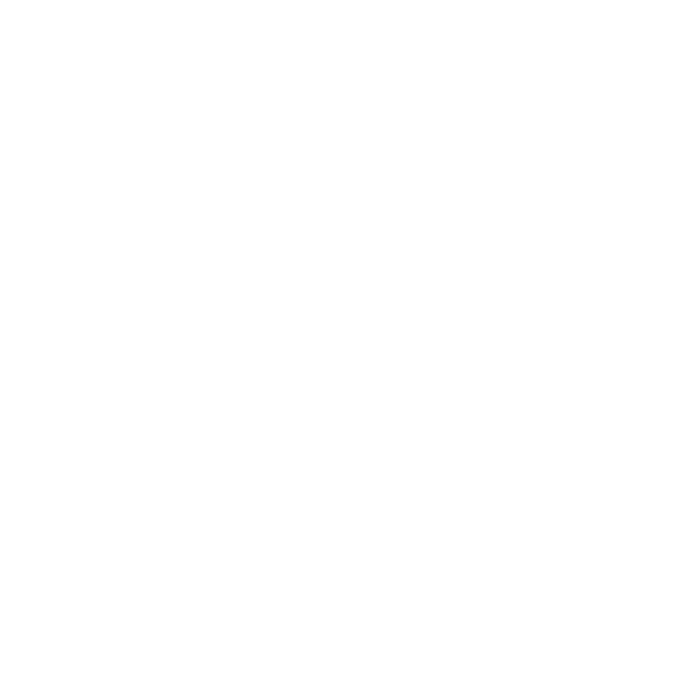
август, 2025
Валентина Кириллова, психолог, читатель
"Рецепт на манипуляцию", как и "Крик души" – как хирургический скальпель, вскрывающий суть манипуляции! Автор гениально показала, как тонко можно раскрыть ложь через детали: фальшивая дрожь в голосе, нарочитая театральность, паузы – будто видишь пациента перед собой. Особенно впечатлила сцена, где врач спокойно парирует его агрессию – настоящая победа профессионализма. Хочется больше таких психологически точных зарисовок!
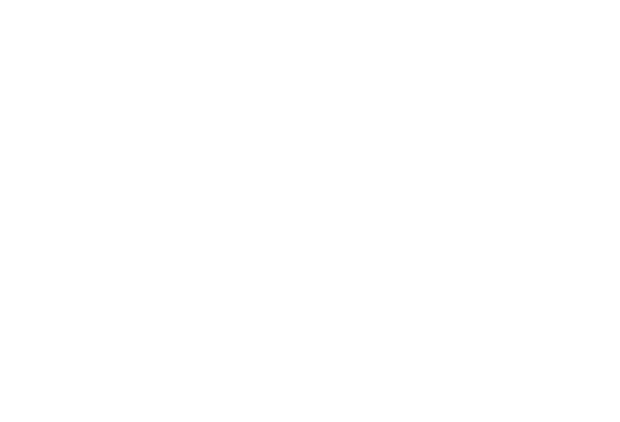
август, 2025
Критик прозы, читатель
Сюжет предсказуем: типичный «плохой парень» против «мудрого доктора». Хотелось бы больше нюансов – вдруг пациент действительно болен, а врач ошибся? Манипулятор слишком уж карикатурно злобен после разоблачения. Но сама идея хороша. Возможно, стоит добавить флешбеков из прошлого пациента, чтобы объяснить его поведение.
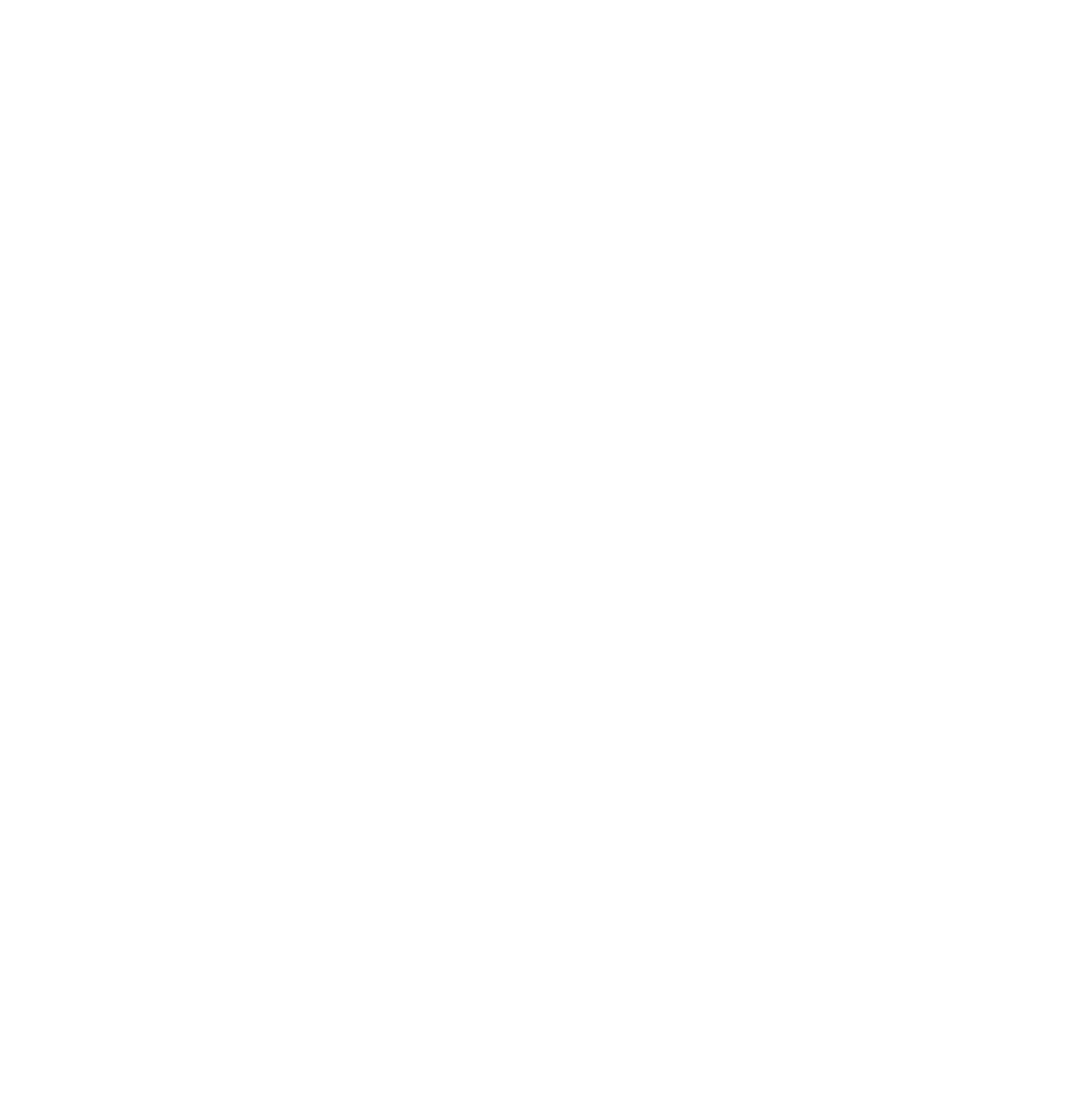
Напишите автору
по электронной почте
prozadiagnoza@mail.ru
Ценю качество общения и порядок в своей цифровой жизни. Спасибо за понимание!